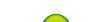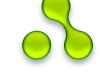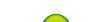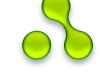| Статистика |
Онлайн всего: 1 Гостей: 1 Пользователей: 0 |
|
Страницы: « 1 2 3 4 ... 33 34 »Показано 16-30 из 501 сообщений
486.
Джайка
(20.06.2007 12:54)
Добрый день. Хочется дополнить архив творчества моей мамы Осташковой Н.Д. ее повестью. Как это сделать?
|
485.
Наталия
(30.03.2007 16:02)
Очень интересный сайт, а как опубликовать здесь свои произведения?
|
484.
MarkizA
(18.03.2007 19:15)
About me^))
Она одна в саду своей души.
Она пытается забыть его пароли.
Печалью скована,отправиться спешит
В страну далекую,где не бывает боли.
На изумруды глаз,
Страданье воскресавших,
Она надеется,чтобы попасть туда.
Она одна в саду своем пропавшем,
Но тихо сердце скажет,что не навсегда…
|
483.
Мария
(25.01.2007 16:16)
Приглашаю всех, кто любит чтение и хорошую литературу, подписаться на мою рассылку "Рецензии на самые интересные книги". Не забудьте подписать своих знакомых и друзей, неравнодушных к интересным книгам. Адрес рассылки: http://subscribe.ru/catalog/lit.review.lit2006
|
482.
Владимир
(22.01.2007 08:09)
Буду признателен за участие в издании порвести "Охота" Владимир Колотенко
ОХОТА
Повесть
Не сотвори себе кумира...
...И, конечно же, рокот грома среди зимы. Снег, морозище лютый, ночь - и друг гром, гроза... Быть беде? Сама по себе гроза не страшна, страшен ее предупреждающий знак, ее крик среди сонной зимы. Мы не слышим этого грозного знака неба, куда там - мы счастливы. От счастья мы просто слепнем, глухие ко всему...
- Я еще хочу, еще... - терзает меня моя Настенька, ластясь и прижимаясь ко мне всем своим цепким тельцем, своей ласковой кожей, - ну же, Андрей... Господи, как я ее люблю!
- Слышишь - гроза, - произношу я. - Зимний гром - это предвестник...
- Да ну ее, Андрей... Андрей...
Она просто истязает меня своим нетерпением. Но я ведь... я же не отказываюсь, я ведь сколько угодно... Я так люблю свою Настеньку, я готов.
- Настенька, - шепчу я, тут же забыв о грозе, - ах, Настенька... Ты у меня такая, ты... знаешь...
Мои губы, едва касаясь ее маленького ушка, шепчут какие-то теплые слова, а кончики пальцев, пальцев слепого, уже читают трепет ее кожи, ее бедер, пупырышки
желания...
Мне следовало бы ей сказать, что только работа, работа до изнеможения, может длить вечно наше счастье, только работа... Мне бы сказать ей, что этот гром...
Не сейчас же!
Потом мы спим досветла, до тех пор, пока не звонят в дверь. Скоро полдень, и нас приглашают на лыжную прогулку. В лес, где корабельные сосны и ели в снегу... А мы еще не успели позавтракать. Я наспех готовлю яичницу, варю кофе, который несу Настеньке в постель, и, когда она с удовольствием опустошает и тарелочку с золотой каемочкой, и керамическую чашечку (Настенька без ума от кофе), мы решаем: а ну ее, эту лыжную прогулку!
- Мы остаемся! - ору я, когда в дверь снова звонят, и мы остаемся в постели. К черту лыжные прогулки! Я так люблю свою Настеньку, милую Настеньку, я просто не представляю себе жизни без нее. Я бы просто умер без нее...
- Ты никого никогда так не любил?
- Никогда... никого...
Мне ведь никто не нужен. И вообще: все, что я делаю - я делаю для тебя, живу для тебя, работаю... Все мои рассказы, и повесть, и пьеска, и стихи... И последний cвой роман я посвящу тебе. Я до сих пор не знаю, о ком буду писать, еще не решил, я ищу героя. Я знаю, что он будет грубым, неотесанным, злым, просто диким. С дикими инстинктами, дикими ухватками, как вышедший из джунглей Тарзан. Таких любит читатель, такие пользуются спросом. Их ждет успех. Это значит, что успех ждет и нас с Настенькой.
- Ты правда никого так не любил? - спрашивает Настенька еще раз, придя в себя, лежа с закрытыми глазами и улыбаясь, - Скажи?
- Вот тебе крест...
К вечеру, ошалев от любви и уже просто выбившись из сил, я беру себя в руки: нужно работать. Две-три странички хорошего текста, остроумный диалог, сверкнувшая блестка юмора - это такой тяжелый труд. Это не то, что обтесать какое-нибудь полено или положить кирпич в кладку. Хотя работа лесоруба не менее увлекательна и прекрасна...
- Настенька, я поработаю?
Она как раз приподнимается на локте, открывает глаза.
- Ты сам сказал - гром... Знаешь, я заметила: как только ты берешься не за свое дело, Бог подает тебе сигнал. Ты написал рассказ - и случился пожар, ты написал какую-то пьеску - и сломал себе руку. Теперь ты взялся за роман - и вот тебе зимняя гроза. Когда ты его закончишь - ждать землетрясения? Или потопа? Ты мне сам говорил, что упрямство - это признак...
- Тупости, - произношу я, - ты права, Настенька.
Этим меня не оскорбишь, не проймешь, я знаю себе цену.
Она склоняет мне на грудь свою умную головку, ее короткая стрижка щекочет мне губы, а она продолжает:
- Зачем тебе, хорошему врачу, эта писательская затея? Ну, правда, Андрей, зачем? В клинике у тебя любимая работа, ты пользуешься успехом, тебе неплохо платят...
- Настенька...
- У тебя светлый, маленький дом, какой ни есть, а свой, ты можешь позволить себе...
- Настенька...
- Ну что "Настенька", разве я не права? Ты бы лучше...
Это поразительно: все мои друзья лезут с советами, подсовывают мне какие-то нелепые идеи... "Ты бы лучше..." Да откуда им знать, что для меня лучше, что хуже?
- Ты права, - мирно произношу я. - Но ты ведь знаешь меня...
- Ладно, - говорит Настенька, легко принимая мое решение, - иди в свой кабинет, но помни: гром уже грянул...
- Что ты имеешь в виду?
- Не знаю, Андрей...
И я ухожу в маленькую, тихую комнатку, чтобы писать свой великий роман.
Мне нужна слава? Нисколечко. Но я не могу не испытать себя, не попытать счастья и на писательской ниве. Сказать правду - мне до чертиков надоели ноющие, ойкающие больные с их грыжами, сколиозами, вывихами и прострелами. Я уже по горло сыт их крипторхизмами, геморроями и ректальными свищами. Хватит! Пора произнести себе вслух это "хватит"! И себе, и всем.
- Хватит! - произношу я, захлопнув за собой дверь и прислушиваясь. Как это решительно и прекрасно звучит!
А Настенька уходит в гости, где нас уже давно ждут. Через часик-другой, обещаю я, приду и я тоже, а пока мне нужно с чего-то начать.
Я усаживаюсь поудобнее, беру в левую руку исписанный листок, в правую - чашечку кофе, и снова прислушиваюсь: тишина. Прекрасно! Далекие звуки гулко грохающего барабана и ничего больше. Может быть, мне мешает яркий свет? Но это дело поправимое. Нужно слегка повернуть настольную лампу... Очки! Где же мои очки? Очки - на месте. Наконец, я читаю первый лист своего первого романа. Затем ставлю чашечку на блюдце и рву лист пополам. Складываю половинки и снова рву. Не годится. Мне нужно слово, первое слово, первая строчка. Мне нужно что-
то жгучее, интригующее. Первый абзац. Первый абзац - это половина дела, начало успеха. A good beginning is half the battle. Нужно что-то такое... Злое, острое, терпкое...
"- Соль подай..." - пишу я.
- Соль подай...
Я произношу это вслух и встаю. Беру чашку и, отпив глоток кофе, снова произношу эту первую фразу. Пробую ее на слух. Неплохо. Звучит прекрасно. И сколько власти! Ослушаться нельзя, неповиновение невозможно. Вот она, первая фраза, вот он, стержень романа. Я комкаю и этот черновой лист и не записываю больше ни строчки. Сегодня мне уже ничего не нужно, и я могу идти к друзьям, к своей Настеньке. Я уже не забуду эту фразу.
Когда мы поздно ночью, шумные, веселые, пьяные и еще не уставшие от счастья, вваливаемся домой, я срываю со своей Настеньки лисью шапку, сдергиваю с ее тельца лисью шубку, беру Настеньку на руки...
- Я так счастлива, Андрей...
Я несу ее в нашу спаленку.
- Слушай, Андрей, давай выпьем.
- Потом...
- Нет-нет, - она соскальзывает с рук, - нет, сейчас.
Ах, Настенька...
В кухне мы сидим и пьем горячее вино, потом нам вдруг захотелось мяса, мы едим его с хреном, с горчицей, горькой до слез...
- Соль подай...
Я бросаю эту грубую, властную, диктаторскую фразу между всплесками смеха, тихо, невзначай, ни тоном, ни жестом не нарушая праздника. Мне не нужно ничего слышать, я даже не поднимаю глаза, а всем своим внутренним чутьем ощущаю, как разрушена радость. Защитившись куском мяса от ее взгляда, поднимаю глаза и, все еще дурацки улыбаясь, смотрю на Настеньку. О, Господи! Ее глаза - словно детский крик. Затем слезы.. Что, собственно, случилось, что произошло? Я этого не произношу, но всем своим видом спрашиваю: в чем дело? Я предвидел, я ожидал, я знал, что за этим моим "Соль подай..." последует ее растерянность, но чтобы слезы...
- Настенька... - я выражаю искреннее удивление.
Теперь она плачет громко, надрывно, просто взахлеб, давая волю слезам. Я заботливо, с чувственным участием подхожу к ней, беру ее хрупкие, дрожащие плечи, стараясь утешить, а с ней приключается истерика...
Вечер пропал.
Я старательно и как только умею нежно и ласково пытаюсь искупить вину в постели, и это мне удается, но заноза моих соленых слов засела у нее в сердце, я знаю. Нет никакого резона лезть к ней в душу с извинениями, глупо звучат и мои примирительные шуточки... Единственное утешение для меня, единственная светлая радость - я нашел верную фразу. Ведь Настенька так чувствительна к грубости, лжи, фальши. Ее не проведешь, не обманешь...
Не выдать бы только своей радости.
Одолев наконец тихие слезы, которые хрустальными озерцами нет-нет и появляются в ее глазах, Настенька, все еще всхлипывая, произносит:
- Никогда, слышишь, Андрей, никогда не говори со мной таким тоном.
- Да, родная моя, да, моя нежная, никогда...
Я все еще вынужден утешать ее.
- Обещаешь?
Я обещаю. Я обещаю, даю слово, даже клянусь и, когда она наконец засыпает, выхожу из нашей спаленки. Иду к себе и включаю настольную лампу. Свежий, просторный лист бумаги, карандаш, ластик под рукой...
Итак, первая фраза готова. Я не пишу ее, я помню. Целый час я сижу, думаю, чешу затылок и мучаю ластик, а листок по-прежнему остается чистым. Я до сих пор не могу представить себе своего героя. Грузчик, лесоруб, горновой... Кто он? Я знаю только одно: он должен быть сильным, крутым, соленым, злым... Еще битый час я сижу со своими мыслями в кухне, ем заливную рыбу, пью терпкий чай и иду спать. Иду к Настеньке, так ничего и не придумав. Оказывается, выдумать героя для большого романа не так-то просто. Гораздо проще забраться к Настеньке под теплое одеяло, прижаться к ней всем телом и, замерев, слушать, как она, что-то капризно буркнув во сне, мирно дышит. Что может быть прекраснее, чего еще желать? На кой мне сдался этот роман, этот злополучный герой? С этими мыслями я и засыпаю.
Как и все радости мира, наша рождественская лесная сказка кончается быстро, пора домой. Тяжелый быт большого города, убогие будни врача. Настеньке тоже несладко. Ей уже двадцать три, и все эти пять лет нашего знакомства так и не внесли ясности в наши отношения. Жениться на ней? Но у меня еще нет крепкого дома, где она могла бы быть полновластной хозяйкой, нет и положения в обществе, а моя зарплата... Мне надоело жить на эти взятки, презенты, на эти подачки. Мои друзья приспособились и, кажется, даже счастливы, а я не могу. Жениться на ней, чтобы потом каждый день выслушивать ее упреки, видеть ее грустные глаза, ее слезы? Нет уж! Женщины в этом все одинаковы: они терпеть не могу бедных мужчин. Это правда. А я не беден, я просто нищ. И вот мой роман, мой спасительный роман... На него я делаю ставку. Единственная надежда - мой талант. Я верю, да, верю...
Февраль уже на исходе, веет теплом, и я ощущаю нехватку времени. Вдруг оказывается, что завтра выходной, а то и праздник какой-нибудь. Или обнаруживается, что замшевые перчатки, которые я только вчера купил Настеньке, уже сегодня не модны. Не радует и новое назначение, новая служебная ступень. Я много работаю, работаю до чертиков в глазах, твердо зная, что занимаюсь не своим делом.
Все эти зимние дни и ночи я вынашиваю сюжет в голове, как вынашивают единственного ребенка. Мой плод зреет. Я представляю себе героя этаким здоровенным детиной, мысленно рисую его образ и все время примеряю к своим знакомым. Среди них я ищу для него тело, наделяю его их привычками... Потом я нахожу, что все мои усилия - чепуха. Никто из моих знакомых не годится на роль героя. И я ищу его снова и снова...
А Настенька уже распахнула свою душу весне, ее милый носик покрылся веснушками. Ах, Настенька...
Я тороплюсь, мучаю себя, не даю себе продыху. Тщетно. И вот я уже пью в одиночестве. Облюбовал дальний столик в углу, и официант легко и непринужденно говорит мне "ты".
- Слушай-ка, плюнь ты...
- Ага, - произношу я и наполняю рюмку.
Я, как всегда, выпиваю свой графинчик, ужинаю и последним ухожу домой. О, горькое вино творческих мук! Настеньке очень не нравятся эти мои попойки. Она не переносит запаха водки.
- Знаешь ли, так можно докатиться...
- Но...
- Никаких "но"! - решительно восклицает Настенька, - мне не нужен в доме выдающийся писатель-алкоголик, я не собираюсь терпеть...
И я снова ищу общества официанта.
Половина восьмого вечера - это странное время суток, когда маешься от безделья. Спать еще рано, а что-либо начинать уже не хочется. Слоняешься из угла в угол, затем берешь в руки какую-то книгу и пытаешься читать. Зачем-то включаешь телевизор и, убрав звук, смотришь, как неуклюже открываются рты у поющих. О чем они поют? Ответа не ищешь, одеваешься и идешь куда-нибудь.
Какой-то чудак уселся-таки за мой отдаленный столик, уселся на мой стул. Я с порога замечаю его, но сейчас не нуждаюсь в собеседниках. Пока я к нему иду, официант, распинаясь в извинениях, что-то щебечет о своем бессилии, вот-де пришел этот хромой, уселся за твой столик, на твое место, и ничего с ним не поделаешь... Сидит уже целый час, как пень, и даже ухом не ведет на мои просьбы.
- Ладно, - говорю я, - оставь его...
Мне любопытно, что это за птица.
- Ты извини...
- Принеси графинчик... И мяса.
Я подхожу и, ни слова не произнося, усаживаюсь на соседний стул. Боже, какие у него огромные руки! Они первыми бросаются мне в глаза, его руки, крепкие длинные пальцы с кустиками черных волос, змеи крупных вен, длинные ногти, небрежно стриженные, с белыми полулуниями у оснований... Руки кузнеца, но и ваятеля. Такие созидательные пальцы. Левая рука уверенно-спокойно, словно отдыхая, лежит на столе, в правой - пивная кружка. Он делает вид, что не замечает меня, потягивая свое пиво, уставясь в окно. Я тоже помалкиваю, наблюдая
за ним исподтишка. Может быть, он станет прототипом моего героя? Эта мысль приходит мне в голову каждый раз, когда я встречаю что-то неординарное в человеке, ну хоть какой-нибудь намек на оригинальность. Я вижу его тяжелую на вид, причудливо изломанную, с красивой белой ручкой черную палку, мешковатый свитер, копну давно не знавших расчески волос, бородатое лицо, и уже нутром чую, что это он, мой герой. Я не знаю, откуда такая уверенность.
Даже громкая музыка, которой я бы с наслаждением заткнул рот, меня не злит..
Я хотел бы увидеть глаза, но взгляд его по-прежнему устремлен в окно, за которым давно сгустились сумерки. В ожидании официанта у меня есть возможность понаблюдать за соседом, и я все больше утверждаюсь в мысли, что это тот, кого я
искал.
- Пиво ничего?
Я решаюсь на вопрос, чтобы услышать его голос. Он только кивает в ответ, не отрывая глаз от окна. И внешний вид, и манера держаться, и то, как лежит его левая рука на скатерти, словно отдыхая, свидетельствуют об окончании моих душевных мытарств. Неужели я снова обрету прежнюю уверенность и вожделенный покой?
Я хочу слышать его голос.
- Вы не возражаете, если я закурю?
Не отрывая кружки ото рта, он равнодушно дергает плечом: кури сколько угодно. Мне нравится его угрюмая неразговорчивость. Примерно таким я его и представлял. Он
просто весь вылеплен из теста моих мыслей, соткан из жил жизни точно таким, какой
может, наконец, удовлетворить мое воображение. Роясь в карманах в поисках сигарет, я все еще любуюсь его руками, широкой костью запястий, полнокровным бугром Венеры. Меня так и тянет взять его руку и изучить на ней линию жизни. Линию ума, линию сердца... И хотя к хиромантии я отношусь снисходительно, я наверняка знаю, что его ладонь исчерчена не линиями, а просто бороздами, бороздами ума, силы, таланта, честолюбия... Жизнь распахала ладони глубоко и верно, предопределив его судьбу, и вот он в расцвете сил, в середине собственной жизни сидит передо мной с кружкой пива в руке. Как же он зарос! Черные густые вьющиеся волосы, рыжая борода с ниточками проседи. А вдруг я ошибаюсь? Вдруг я только рисую его себе таким, а он окажется совсем заурядным, этаким любителем пива с незатейливым прошлым и безо всякого будущего? Я пугаюсь этой мысли, а он берет щепотку соли и бросает ее в рот. Из зарослей усов показываются большие белые зубы, огромные, как у коня. И пахнет от него конем, конюшней. Может быть, он цыган? Конокрад? Он допивает пиво и лениво облизывает усы розовым языком. Теперь я ищу свою зажигалку, а к нам уже спешит официант. Он приносит графин с вином, мясо с картошкой, два огромных ломтя, на которых еще пузырится горячий жир, и от одного вида которых слюнки текут. Я смотрю на соседа и вижу, как он пожирает глазами мое мясо. Затем закрывает их и, дернув кадыком, котторый импульсивно шевельнулся под воротом свитера, прикрытого бородой, берет кружку. Я не могу видеть его кадык, я просто знаю физиологию голода. Голодные рефлексы у всех одинаковы. Значит, не цыган. Цыгане не терпят голода.
Когда официант уходит, я предлагаю:
- Хотите вина?
Видимо, его больше интересует мясо, но он молчит, ничем не выражая к нему своего
отношения, ставит наконец пустую кружку на стол и встает. Мать честная! Какая громада!
Он сдергивает со спинки стула жупан, надевает, долго роясь в карманах, добывает измятые бумажки, жалкие рубли, кладет их на скатерть и, прихватив свою увесистую палку, идет к выходу. Я не догоняю его, не боюсь упустить: еще увидимся. Откуда такая уверенность, я не знаю. Круто припадая на правую ногу и опираясь на палку, он, громадный, идет между столиками, качаясь, как огромный маятник... Хромой! Такой герой не входил в мои планы. Он не оглядывается, не приостанавливается у зеркала. Прохромав мимо, решительно дергает дверь и пропадает в темноте. Он ни разу не посмотрел мне в глаза, ни о чем не спросил... Да и с какой стати? Я для него случайный сосед по столику, предложивший
выпить вина. Таких - пруд пруди...
Моя сигарета заждалась огня, и официант уже тут как тут
- Как это тебе удалось?
Что он имеет в виду?
Я прикуриваю, а он, сунув зажигалку в карман, наполняет фужер розовым вином.
- Выдворить его так быстро.
- Я предложил ему вина.
- Да, - произносит официант тоном знатока, -
гордецы чаще живут впроголодь. Я часто вижу таких, гордых...
Небрежным движением руки он отодвигает в сторону измятые рубли, сметает салфеткой
несуществующие крошки и добавляет:
- Гордыня - глупость, смех просто, не правда ли? К тому же - грех.
Мне хочется побыть одному, поэтому я не поддерживаю разговор, а он, психолог, ни слова больше не произнося, накрывает ладонью скомканные рубли, сгребает их в кулак и, сунув кулак в карман, уходит.
Только еперь я ощущаю настоящий голод, кладу сигарету в пепельницу и пью вино. Затем набрасываюсь на подостывшее мясо. Единственный раз на долю секунды мы встретились глазами с моим хромым, а я все еще чувствую этот взгляд. Я не могу объяснить, что в нем такого особенного, но и забыть не могу.
Придя домой, я рассказываю Настеньке о своей удаче. Наконец-то мне повезло! Знаешь, говорю я, он удивительный тип, этот хромой. С виду он кажется грубым и неотесанным, и все же глаза его выдают: в них светится какой-то загадочный ум. В них нет суетливости, нет даже любопытства, мир для них ясен, как день. И ты бы видела его руки...
- Я просила тебя не приходить домой пьяным...
- Мы посидели в кафе... У него взгляд беса, пронизывающий насквозь. Знаешь...
- Брось, Андрей. Зачем ты мне о нем рассказываешь? Ты бы лучше...
Опять она за свое. Это невероятно, но мысли о хромом приходят мне в голову даже когда я целую ее и - удивительно! - даже в момент божественного наслаждения, которое я
испытываю, купаясь со своей Настенькой в ласках любви.
О том, что я могу его больше никогда не увидеть, я не думаю. В новую встречу я безусловно верю. А как же! Но на сегодня достаточно впечатлений, да и время позднее.
Моя Настенька лежит рядом, дыша как ребенок. Я вижу красивую шею с большой
родинкой, ее милое плечико, модно стриженный затылок. Устала, бедняжка... Я тоже
притворяюсь спящим, лежу без движений...
- Андрей...
Она поворачивается ко мне лицом и, напрягая свое тугое тельце, вытягивается
дугой, и секунду-другую лежит, замерев, как пантера перед прыжком (я знаю эти ее
штучки). Я - мертв. Я делаю вид, что сплю, но только делаю вид, готовый ко всему, ко всем ее милым выходкам, ее капризам, ее желанию...
И вот пантера прыгает!
- Андрей!..
Она вскакивает и тут же обрушивается на меня, точно лавина, нежная лавинка, ласково
впиваясь в мою кожу перламутровыми ноготками.
- Андрей!..
Господи, сколько же в ней жизни... Я - сплю.
- Я знаю, что ты не спишь, знаю...
Попробуй тут уснуть. Я ведь догадываюсь, чего она сейчас потребует. Настенька
распаляет себя, терзает мою кожу, и вот я уже слышу:
- Я еще хочу, Андрей, еще, еще...
Ах, Настенька... Я открываю глаза.
- Я не могу уже...
- Можешь, можешь, можешь, можешь...
Она царапает мне кожу, кусает губы... Больно же!
- Можешь, можешь, - шепчет она, - я знаю,
знаю...
Затем, стеная и неистовствуя, она истязает мое тело, мою вновь ожившую и лопающуюся
от желания плоть, лихая наездница, сущий порох... Ах ты, моя ненасытница...
Она просто вышибает из головы все мысли о герое, опустошая память, сатанея в
беспамятстве, как в пляске святого Витта и, наконец, истомившись и насытившись,
замирает. Бешеная ее кошачья стихия стихает.
И тут оживаю я...
- Не дыши мне в затылок, мне жарко...
Она сбрасывает с себя простыню и отодвигается... Затем мы лежим какое-то время
в тишине, счастливые, просто преступно счастливые, моя Настенька засыпает, а я
тихонечко рассказываю ей сказку о каком-то хромом, тихую сказку, которую дарю ей на
ночь, рисуя своего героя светлыми добрыми красками...
- Слушай, - едва слышно говорит она, - зачем ты мне все время о нем рассказываешь?
А кому же я еще могу рассказать?
- Ты бы лучше мне спинку погладил.
Я глажу.
- Я хочу спать, Андрей, я уже сплю. Ты рассказывай...
Я рассказываю, нежно глажу ей спинку, плечи, кутаю ее в простыни... Ах ты, моя труженица!..
Не знаю, как бы я жил без своей Настеньки.
На следующий день я убегаю с работы пораньше, спешу в кафе и, усевшись на свое
место, весь вечер жду. Нет моего героя. Я спрашиваю официанта, не заходил ли мой
гордец. Нет, не заходил. А видел ли его официант когда-либо прежде? Нет, не видел.
Во всяком случае припомнить не может. С каждым скрипом двери я поворачиваю голову...
Изо дня в день я ухожу с работы, провожаемый взглядами сослуживцев, их колкими шуточками, шныряю вблизи кафе по весенним улочкам в надежде встретить моего
хромого... Нет его. Я с ног валюсь от усталости, грублю прохожим, позволяю себе
орать на пациентов, то и дело заглядываю в кафе и немо вопрошаю официанта: не было?
На это он только разводит руками и виновато улыбается.
- Я упустил его, - жалуюсь я Настеньке.
- Да черт с ним, с твоим хромым... Найдешь себе слепого.
Я злюсь на Настеньку.
Поздним вечером я пытаюсь написать его портрет, рисую его, так сказать, внутренний
мир, рассказывая о нем Настеньке и вызывая ее недовольство. Но мне не с кем больше
поделиться своими горестями.
Я упрямо творю своего героя, мучая свое воображение, и твердо знаю, что без встречи с
ним я обречен на неудачу. Все мои потуги шатки, хилы, хлипки...
Ночью я пишу, а утром, прочитав, рву написанное.
Я встречаю его к исходу второй недели поисков. Он сидит за нашим столиком на моем стуле и вяло тянет свое пиво. Я замечаю его с улицы через окно, спешу к нему и готов
расцеловать.
- Ты где пропадал? Привет...
Я сердито набрасываюсь на него, как на старого знакомого, зло упрекаю тоном и всем
своим видом: что ты себе позволяешь?..
Мое "ты" его не ошеломляет, а рассерженный вид, как я вскоре понимаю, ему начихать На приветствие он все-таки отвечает кивком головы, но вопрос оставляет без ответа.
- Ты есть хочешь? Я угощаю.
Ну и несет же от него.
- Можно...
Это его басистое "можно" просто ласкает слух. Я его расшевелю! Я уже знаю, на какой крючок его поймать, какую наживку ему подкинуть - мясо! Почему я думаю, что он
всегда голоден? Я заказываю традиционный графин вина и три порции мяса. Ему - две. Я не знаю, есть ли у него дом, семья, и готов привести его к себе, только бы он не сбежал. Мне нужно, чтобы он хоть немного приотворил окошечко в свой мир.
- Так где же ты пропадал? - повторяю я свой вопрос, располагаясь поудобнее и заглядывая ему в глаза.
Теперь и он какое-то время рассматривает меня. На вопрос не отвечает. Какое ж,
однако, удовольствие видеть его живым-здоровым. Нет ничего проще, чем выдержать
этот холодный взгляд и равнодушно осведомиться, например, о роде его занятий.
Должна же быть у моего героя какая-то профессия.
- Еще пива? - неожиданно для себя спрашиваю я, чувствуя какую-то
растерянность под его спокойным нелюбопытным взглядом.
- Что это вы расщедрились? - первый его вопрос. И голос у него такой же ровный и
спокойный, как взгляд, с какой-то весенней хрипотцой, приятный баритон, даже бас.
Почему этот голос и этот взгляд держит меня в таком напряжении?
- Мне кажется, - произношу я, - что от порции хорошего мяса вы не откажетесь. Вот только платить вам нечем.
Он не принимает мое "ты", не подпускает к себе. Не надо. Зато я попадаю в десятку. Для
мужчины нет, вероятно, ничего страшнее, чем объявить ему о несостоятельности. На какую-то секунду он замирает, пальцы левой руки перестают барабанить по столу, он закрывает глаза и опускает лицо. Я жду ответного удара, я готов, я только делаю вид, что ищу глазами официанта. Наконец мой герой поднимает голову и медленно, чересчур медленно, поворачивает лицо в мою сторону.
"Эй, официант!" - Я не произношу этого, а только поднимаю правую руку и щелкаю
пальцем. А мой герой поднимает веки. Веко. Одно веко, затем, с отставанием на какую-то
секунду, поднимается и другое. Это производит впечатление открывающихся глаз у куклы с
испорченным механизмом. Жуткое впечатление, так как я вижу живые, черные, широко посаженные глаза, спокойно наполняющиеся злой ненавистью, глаза с тихим блеском презрения. Я задел его за живое, я рад этому. Только бы он не ушел. Чтобы он остался сидеть, я, не оглядываясь, иду к бармену за сигаретами. Я оставляю его одного, чтобы своим уходом ему некому было высказать презрение. Перекинувшись словцом-другим с барменом, я закуриваю и, сощурив глаза от дыма, искоса ищу взглядом своего гордеца. Он сидит как сидел. Со стороны его мохнатая голова кажется черной дырой в
стене. Надо быть с ним помягче, решаю я, пообходительней. Струнки гордости такие тонкие, а души гордецов такие ранимые, это я знаю. Это знают даже официанты.
Подойдя, я предлагаю ему сигарету, и он берет. Тут же подвешивает ее на свою сочную нижнюю губу и, выудив из кармана куртки спичечный коробок, прикуривает. Он с наслаждением втягивает в себя первую порцию дыма, так что, кажется, нет в мире ничего слаще. Все складки его лица и на лбу,
и у глаз разом расправляются, веки падают, и на какую-то секунду он замирает. Затем, ни облачка не выдохнув из себя, он снова припадает к сигарете, долго, очень долго пьет ее дым, как из целебного источника, распаляя
ее жар и вздымая свою огромную грудь... как же давно он не курил!..
Я тоже закуриваю. Он роняет пепел на куртку, но не замечает
этого. Когда он наконец открывает глаза и смотрит на меня, я делаю вид, что изучал меню. А он делает выдох, медленный длинный выдох и теперь тщательно стряхивает пепел с борта куртки. И снова припадает к
сигарете.
Официант приносит долгожданное мясо. Я тоже голоден и с аппетитом набрасываюсь на еду, а он берет графинчик и наливает в фужеры вино.
- Ах, да... - произношу я, - конечно...
Мы не чокаемся, а лишь приветствуем друг друга поднятием рук с фужерами и выпиваем без тоста. Едим молча. Я еще не слышал от него ни единого слова. Его "можно", которым он признал свой голод,
для меня, как мычание мула. Может ли он связать два-три слова в мало-мальски простое предложение, я не знаю. Хотя его черные глаза излучают свет и выказывают просто недюжинный ум и какую-то твердую
решимость.покорения его души.
- Вы художник...
- Еще винца? - спрашиваю я и вижу, как его рука уже тянется к графину.
- Вы, добрая душа, со всеми так щедры? - неожиданно произносит он, наполняя свой фужер. - А знаете, вы мне нравитесь. Вам что-нибудь от меня нужно?
- Признаться честно - да...
Я произношу это не раздумывая, зажатый в угол его простым вопросом, перечеркнувшим все мои старания, мои тайные планы
- Да, в общем...
- Писатель...
- Ну не так, чтобы...
Мне не нужно теперь ловчить и ерничать, как-то хитрить и что-то там придумывать, чтобы сблизиться с ним. И я благодарен ему за это: так - куда легче, так проще...
Официант приносит мои любимые колбаски с острым соусом, а мы еще не управились с мясом. Правда, мой собеседник уже разделывается со второй порцией и с удовольствием посматривает на колбаски. Кажется, он вот-вот отшвырнет нож и вилку и, потирая руки, набросится на аппетитно
поблескивающие, ароматные мясные поджарыши.
- Ну, знаете... - только и произносит он.
Давно же он не ел так много и так вкусно. Я уже готов спросить, как его зовут.
- Знаете, ваша щедрость несколько настораживает, - говорит он и отпивает глоток вина, - что же вам от меня нужно?
- Да в общем-то ничего особенного. Так что можете не беспокоиться.
- Еще вина? - Официант, выжидательно замер вполуобороте.
- Да, пожалуй... - Мой герой смотрит на меня вопросительно, затем спрашивает:
- Вы ведь не возражаете?
- Разумеется...
Мне нравится веселость, с которой он произносит слова. Я рад, что расшевелил его, расшевелил-таки, и мясо здесь сыграло не последнюю роль.
Я собирался узнать его имя.
- Значит, вы писатель... Что же вы написали?
Его вопросы в лоб обескураживают меня.
- Да, так...
- Можно узнать ваше имя?
- Я пишу под псевдонимом...
Барабаня пальцем по столу, он какое-то время молчит, затем произносит:
- Эта неуверенность дорого вам будет стоить.
И вот мы сидим, жуем колбаски, запивая вином, весело болтая о том, о сем - старые знакомые, со стороны - приятели, не меньше. Для первого раза вполне достаточно. Вино и мясо немного сблизили нас, и все же каждый
для другого еще остается загадкой.
- Не могу поверить, что вы это говорите всерьез.
Почему я должен верить ему на слово? Я привык видеть разных людей: вероломных, и лжецов, и притвор... Кто-то из великих сказал, что не видел чудища более диковинного, чем он сам. Человек разнолик, а мой Егор утверждает, что он прост, как палец. С этим я не согласен.
- Давайте-ка лучше еще выпьем, - предлагает он.
- И все же вы мне не ответили...
Я вижу, как он сыто откидывается на спинку стула, вытирая губы салфеткой, затем, приложившись к пиву, изрядно отпивает из кружки. Какое-то время мы молчим, но ведь каждому из нас ясно, так просто мы не можем растаться. Просто встать и уйти в разные стороны? Еще чего! Зря, что ли, я накормил его до отвала? Вот и сейчас я вижу, как он тянется к моим сигаретам. С какой такой радости я должен его угощать?
Он закуривает, а я все еще дожевываю свою колбаску.
- Чего же вы все-таки ждете от меня?
Я отрываю глаза от тарелки. Он сидит, откинувшись на спинку, борода, усы, кажется, вот-вот, вспыхнут, дымит и сигарета, небрежно удерживаемая двумя пальцами. Прищурив глаза, он наблюдает, как я ем. Чтобы ответить
на его вопрос, мне приходится жевать несколько быстрее обычного, затем долго вытирать рот салфеткой. Я думаю, что ответить.
- Станьте моим героем.
Я произношу это ясно, негромко, глядя ему в глаза. Зачем хитрить?
- Ну да... Я это знаю, это для меня не ново. Не понимаю, что во мне находят такого...
Он произносит еще какие-то слова, а я готов уже задать ему новый вопрос. Он давно сформулирован, я только жду момента, чтобы этот мой вопрос не стал последним. Я выжидаю и не слушаю его. Вот момент:
- Скажите, вы неудачник? - При этом я тоже закуриваю, чтобы дым сигареты скрыл мои глаза, и я мог незаметно понаблю-дать за
ним. Ни единым движением не выдает он своего внутреннего напряжения. Только очередная порция пепла падает с его сигареты на свитер, но это не привлекает его внимания.
Я жду ответа, напряженно рассматривая умирающий язычок пламени спички. Каждый мужчина когда-нибудь должен ответить,
удачлив он в жизни или нет, и у каждого, я думаю, на этот счет есть готовый ответ. Жизнь ведь часто задает этот вопрос. Но хватить ли мужества признаться в этом другому?
- Да...
Он все-таки произносит это долгожданное "да", стряхивает пепел с груди и добавляет:
- Удача не всегда была у меня в любовни-цах. Но какое вам до этого дело?
- Я хочу знать о вас все.
- Вы - просто олух, честолюбивый олух и глупец. В вашем возрасте следовало бы...
- Пожалуйста, выбирайте выражения.
- Вы же хотите все знать обо мне.
- Да, но это не дает вам права...
- Дает.
Он раздавливает сигарету о дно пепельни-цы и, зачем-то глянув по сторонам, пытается встать.
- Дает, - повторяет он. - Если я ваш герой.
Он благодарит за ужин и прощается. Не удерживать же его за рукав? Мне хочется напоследок лягнуть его.
- Вы поступаете хуже...
- Бросьте... Это вы со своими хромыми взглядами сделали мир слепым. Ваши горбатые души... впрочем, ладно... Он берет кружку с остатками пива и отпивает глоток.
- Ладно, - говорит он еще раз и берет палку, - вы не сердитесь. Я и правда не знаю, чем вам помочь. Если у вас до сих пор нет имени, нечего соваться... Ведь уже есть Тургенев, Толстой, Чехов... Есть Стендаль,
Флобер, Диккенс, Бальзак, Гюго... Куда вам? К тому же я абсолютный счастливец и в герои не гожусь. Просто мир вокруг вас еще такой
дикий, такой девственный. Вот он и есть неудачник. Он - ваш герой, начните с него.
- С кого, "с него"?
Он улыбается:
- Ну, с мира... Извините, но мне, правда, пора.
- Куда это вы так спешите?
- У нас сегодня ничего не выйдет, а мне еще нужно...
- Чем же вы занимаетесь?
- Да вот... живу. Пока, увидимся еще...
Он не подает мне руки, прихрамывая, уходит, а я мучаюсь оттого, что так и не узнал его имени. Егор он или не Егор?
- Настя, Настя, Настенька, Настя...
Я кричу с порога, ору так, что Настя вскакивает с дивана и замирает в оцепенении. С белыми от страха глазами, каменная, она стоит в своем коротеньком синем халатике, не смея вымолвить слова... "Что случилось?" -
она не в силах задать вопрос, но вида ее вполне достаточчно, чтобы понять, насколькоона потрясена.
- Что?.. - только и произносит она.
- Настенька, я... я говорил с ним...
Она делает выдох, закрывает глаза и присаживается на подлокотник кресла.
Молчание. Затем она вскакивает и рысью, пантерой бросается на меня: прыг! В
мгновение ока она оказывается рядом и ну лупить меня своими кулачонками, царапая своими ноготками мое лицо, руки... Густая краска ненависти проступает на ее щеках, ее маленькие прелестные ушки горят, а в глазах,
ее дивных серых глазах, появляются два прозрачных зернышка слез. Она плачет.
- Настенька...
Она прикрывает лицо своими нежными ладошками, опускается в кресло и плачет.
- Настенька...
Только плечи, ее милые плечи тихонько вздрагивают в моих руках. Я успокаиваю ее, как могу.
- Не смей... не смей мне говорить о нем никогда...
- Хорошо, Настенька, хорошо-хорошо...
- Никогда...
- Никогда, Настенька...
Я утешаю ее, целую, клянусь, трогая то ее руку, то плечо... А полчаса спустя мы уже смеемся, лежим и смеемся, уплетая кукурузные палочки, которые я запиваю пивом, и она тянет пиво из горлышка, я произношу:
- И тогда я помчался в кафе...
- К этому своему бомжу?
- Ага, знаешь... Он...
- Стоп-стоп. Мы же договорились.
Но я хочу, жутко хочу рассказать о Егоре. С кем же мне еще поделиться мыслями, кому же еще я открою душу?
- Ты пойми, Настенька...
- Ты бы лучше...
Я начинаю злиться. Она злится тоже.
- Дай мне, пожалуйста, сигарету, - вдруг
просит она.
- Что дать, что тебе дать?
Я ставлю бутылку на пол, бросаю пакетик с палочками и сажусь в постели.
- Си-га-ре-ту, вот что, - объявляет Настенька.
Это для меня открытие.
- Ты куришь?
- И пью, и вообще... Ты бы больше якшался со своим бомжем.
При чем тут бомж и что значит "вообще"?
- Ты сигарету даешь?
Я терпеть не могу курящих женщин.
- Пожалуйста.
Я
|
481.
Владимир
(22.01.2007 08:05)
Добрый день!
С НОВЫМ ГОДОМ!
Буду признателен за участие в издании романа «Дайте мне имя» - 18 авт. листов (Готова электронная версия).
Колотенко Владимир Павлович (псевдоним Владимир Маринин), врач, кандидат биологических наук, член Союза журналистов Украины.
Изданы мои рассказы:
- "Фора" (журнал "Молодежь и фантастика", 1994)
- "В поисках маленького рая" (еженедельник "Киевские ведомости", 1998)
- "Семя скорпиона" (еженедельник "Волшебная шкатулка", 2002г.).
Изданы книги:
- 2 повести: "Цепи совести", «Охота», 1994 г. (12 авт. листов ),
- роман "Дайте мне имя", 2000г. (18 авт. лист),
- "Экология мегаполиса", 2002г. (В соавторстве, 20 авт. листов).
МОЙ АДРЕС: 49041, Украина, г. Днепропетровск, Запорожское шоссе, 68 кв. 65.
КОНТАКТНЫЕ ТЕЛЕФОНЫ: 8(056)697-35-17, 8(063)494-79-41;
E-mail: vkolotenko@mail.ru
Роман «Дайте мне имя»
Предисловие
Иисус - Бог!..
Мы ничего не выиграем, если станем противоречить этому утверждению. Всякая попытка дополнить или объяснить его, обвинить или найти ему оправдание обречена на провал.
Мир сотворен совершенным и совершенство это восхитительно.
В мусоре повседневности человечество отыскало бесконечное множество средств и способов убивать время, не давая себе труда заниматься вечностью. Гении, открывающие нам глаза на мир чрезвычайно редки. Они стоят в стороне от пыльных дорог и стоят высоко. Тянуться к ним - неземное блаженство. А живая влага человеческого любопытства никогда не утолит жажды познания Бога.
Муки мира начались с тех пор, когда кусок яблока застрял в горле Адама. Грех, как джин вырвался на волю и пошло-поехало... Приходило много мудрецов и умников, чтобы вновь вернуть миру рай. Ничего не вышло.
И пришел Иисус...
Он пришел и сказал, что среди всех наших врагов, самыми лютыми для нас являемся мы сами. Он пришел, чтобы открыть нам истину, познакомить каждого из нас с лучшей частью нас самих, прочитать себя в себе и дать нравственное и благородное направление нашим страстям. Он пленил каждого, кто сумел распознать в Нем мученика за наши грехи и Спасителя. Вот и я - стал пленником Его мук.
Задача этой книги состоит не только в том, чтобы еще раз прикоснуться к одеждам Иисуса, припасть к Его пыльным сандалиям и прижаться к Его плечу в поисках утешения, но и в том, чтобы увидеть живого Иисуса, послушать Его велеречивую речь, пережить с Ним радость любви, муки измен и распятия.
Человечество, вырвавшееся из узды нравственности, сорвало мир с петель и стремительно несет его в бездну ада. Глубокий страх перед будущим растрогал наши чувства, и именно сегодня мы, как дети, восприимчивы к тем немеркнущим ценностям, которые подарил нам Иисус. Именно сегодня мы острее всего ощущаем себя грешниками, распявшими на кресте свое настоящее и убивающими будущее. Пар наших страстей, кипящих в котле жизни, вращает турбину повседневной борьбы между духом и плотью, не выявляя ни на йоту времени победителя в слабых душах, и только сильные и осененные Его Духом способны совершить восхождение на труднодоступную вершину, имя которой Совершенство.
Эта книга - еще одна попытка понять Бога и Его промысел. Ради этого Бог и стал человеком: чтобы мы научились Его понимать. Каждый может написать свою книгу, и она тоже будет нужна миру, как опыт, как еще одно откровение, еще один вклад в копилку Совершенства.
Нельзя рассчитывать на случайность в поисках путей совершенства, здесь нужны воля и труд, пот и слезы. Требуются Иисусовы муки...
Я, по истине, уверен, что мне так и не удалось высветить весь груз тревог и страданий Иисуса, но ведь это никому не по силам. Уж слишком тускло наше воображение, чтобы пытаться даже представить себе Его Божественный Гений. Но если каждый из нас даст себе труд возвести взгляд из пекла бытия к Небу, гиря горя на весах жизни станет полегче, а счастья - прибавится.
Не из любви к славе и не из тщеславия быть награжденным вниманием читателей, я соглашаюсь с теми, кто признает эту книгу прекрасной, и с абсолютным беспристрастием и чистосердечием предлагаю ее как дар трансцедентной тревоги своей души, эзотерики каждой клеточки моей плоти.
Я надеюсь быть прощенным за те недостатки и недоработки, а, может быть, и угрюмые пятна невежества, которые обязательно обнаружатся в этой книге, и в оправдание этого факта призову известную истину: в суете сует нет места совершенству.
Я отдаю себе отчет в том, что моя попытка проникнуть в психологию поступков и мыслей Иисуса, конечно же, тщедушна и жалка, но это мой Иисус и с Ним я хочу познакомить читателя.
Я не надеюсь на громкое эхо восторгов и оваций, громкие рукоплескания вряд ли расслышат и персонажи моей книги, но пока живет во мне страсть к совершенству, пока ради этой страсти я могу укрощать свою плоть и жертвовать собственными страстями, я буду нести свой дар людям. Я ведь теперь не гость на этой земле, а хозяин, и в равной мере сочувствую как своему соседу по дому, так и античному рабу, прикованному к веслу галеры, я теперь брат всего живого и соплеменник каждого, кто обитает на этой Земле.
Те тайные побуждения, которым я обязан написанием этой книги, видимо из благоразумной осторожности не стать мишенью для горластых критиков, еще не высказаны до конца, еще гложут мою душу и совесть, и готовы выплеснуться в очередной том темы, которая не имеет границ.
Ничто не может лишить меня того неизъяснимо-нежного восторга и благоговейного счастья, которыми я был награжден в течение всего времени написания этой книги. И чистосердечный отзыв читателей будет служить для меня елеем признания и утешением в бурных буднях сегодняшних дней, и сделает много чести моему сердцу.
Порадуйся за меня, мой Читатель: теперь я тоже распят. На кресте нашей жизни. Приглашаю и Тебя - поднимайся! Это приглашение на казнь, но и путь к Совершенству. Эта книга - это мой путь, это мой Иисус и я сам в Иисусе. Как Флобер - это мадам Бовари, так и я - Иисус! Я не Христос, но Иисус. Роден, создавая шедевры, брал кусок камня и отбрасывал лишнее, я же, стремясь к совершенству, недостающее беру у Христа.
Вот уже более двух тысяч раз Колесо Жизни обернулось вокруг Солнца, и каждый день мы слышим восторженный возглас Иисуса: "Совершилось!"
Совершенство свершилось!
Надеюсь и мне удалось к нему прикоснуться.
Благословение
Слава Ииcусу Христу!
Благословение
Уважаемый господин Владимир!!!
Прочитал Ваше произведение и прошу принять мое скромное слово о нем.
Роман "Дайте мне имя" - портрет души, которая ищет Бога.
Величайшей загадкой человеческой психики является механизм поиска истини. Сложность познания возникновения человека в этом мире, бытие человека в нем, стремление к Творцу, который все премудро создал, а мы только пользуемся всем нам приготовленным. Осмыслить это чрезвычайно трудно и в то же время, с помощью веры, очень легко, однко прийти к ней нужно тернистым путем.
Автор Владимир Колотенко на своем примере показывает нам этот тернистый путь, который проходит каждый современный человек, которому не дает покоя сознание бытия в этом Винограднике.
В рассказе на страницах книги читатель вместе с автором ( так как речь идет от первого лица ) проходит через муки, сомнения, разочарование, боль, радость и счастье во всей многогранности и гармонии жизни.
В этом и есть наибольшее наслаждение от бытия в физическом мире, который является дуалистическим.
Владимир Павлович понял, что созданы мы по образу и подобию Божьему, и нам присуще все человеческое. Одного нам не дано - это стать равными Богу, так как Он Творец всего, а ми пользователи того, что Он создал.
Если Сын Божий, Иисус Христос - второе Лицо Божье - безвинно переносил все терпения, которые мы имеем за грехи наши, то мы их терпим заслуженно. Понять эту сентенцию помогает вера. И как Иисус воскрес, так и нам дал надежду на это, и мы воскреснем в Нем и через Него.
С большим удовлетворением читал роман и хотел бы, чтобы с ним познакомилось как можно больше людей. Это будет очень полезным в нынешней трудной жизни, так как покажет современникам источники пополнения сил духовних и материальних, чтобы найти мужество и правильный путь в путешествии к Богу.
Любовь Его к своим творениям безгранична и в это нужно поверить. В этой вере наше спасение и великая радость от существования в физическом мире.
Аминь.
Священноархимандрит Лука.
Р.S. Прошу принять этот отзыв как благословение на публикацию Вашого труда.
При этом Ваш почитатель, Олег Нарольський
Некоторые рецензии
Этот труд - для ищущих путь к Непреходящему, к красоте Бытия, гармонии земли с Небом, совершенству души и тела...
Книгу можно назвать исповедью. Автор естественно и просто вводит нас в мир жизненных ситуаций с мгновениями страданий и радости, опустошения и надежд, робости и мужества, сомнений и веры, боли и любви.
Читатель "причащается" к многоплановости повествования, такой типичной для изменчивой природы человеческой личности.
Такой стиль вызывает сначала недоумение, но затем становится близким. Читатель становится свидетелем рождения Феникса из пепла самосожжения своего эгоизма, страстей, очарований и разочарований. Такое самораспятие прошел автор в лице Иисуса из Назарета.
Иисус шел навстречу своим мукам и своему триумфу в новом качестве Христа, победившего земную природу.
Понявших это не будет вызывать недоумения и возражения несовершенство Иисуса в начале Его духовного пути. Таким "очеловеченным" Он и Его Божественный мир становятся для нас ближе, доступнее в сознании, принятии. Ведь Он до победы над собой тоже, как и мы обманывалcя, тревожился, печалился, грустил, поступал опрометчиво, переживал неразделенную любовь, предательство друзей и близких, и вновь обретал силы, чтобы встать после падения, надеялся, верил, любил...
В таком художественном приеме "зрячие увидят" путь к своему Христу. А имя Ему каждый даст свое. И в этой поддержке для нищих духом актуальность и своевременность книги.
Здесь ответы на многие трудности и вопросы для ищущих. И когда приходит понимание, безысходность оборачивается предверием покорения новой ступени мудрости, предательство - неизбежностью и свидетельством духовного роста, обида, разочарование и злоба - благодарностью к обидчикам и недоброжелателям, ибо унижение и распятие есть последний порог перед вратами Вечного Света.
И тот, кто пытается воскресить в себе Дух, распятый земными страстями и похороненный в склепе грешной плоти, кто нашел в себе силы откатить в сторону камень материи от дверей своего внутреннего святилища, тот воскрешает в себе Христа.
Спасибо автору за его борьбу и победу, возможность для читателя пройти вместе с Иисусом путь к Воскресению.
Людмила Песоцкая, врач, профессор.
Роман-эпопея украинского писателя Владимира Колотенко "Дайте мне имя" о внутренних мгновениях жизни и смерти Человека - явление безусловно ярчайшее в мировой культуре.
Повествование не очерчено государственными границами и временем, оно простирается намного дальше, чем ограничивает текст бумажное поле.
Здесь каждый читатель найдет самого себя, если сможет проникнуться стремлением самопознания в попытке подняться над каждодневной суетой собственного мира, ощущений, стремлений, преломляя себя, как в зеркале, амальгамой которого является триединое божественное начало Иисуса Христа.
У каждого человека свой Бог, если это человек, но множество людей становится народом только тогда, когда рождается общее духовное поле, засеянное зернами человеческих душ, вспаханное страданиями и состраданием, единое и объединенное миром.
" Дайте мне имя " - роман, обращенный к читателю, где реальная жизнь неотделима от вымысла, где вымысел реален и наполнен реальностью.
Каждый несет свой крест, каждый сам ищет своего Бога и свою дорогу к людям.
Александр Левенко, член Союза журналистов
Украины, писатель, издатель.
Грех от плоти, святость от Духа...
Человек, заключенный во плоти, грешен изначально. Бессмертная душа его устремлена к идеальному, к Совершенству. Бесконечное противоборство двух противоположных начал определяет мир ценностей, представлений, ощущений, поступков и дум человеческих.
Какое начало первично и какое вторично, кто управляет и что подчиняется, какое соответствие духа и тела наиболее разумно, какое взаимоотношение их сейчас?..
Кто может ответить на эти вопросы?
Научно-технический бум 20-го века усилил многократно возможности удовлетворения эгоистических плотских желаний человека, его стремление к богатству, к власти над себе подобными и природой. Мировое искусство все более превращается в технократическую индустрию удовольствий на основе примитивной неодушевленной массовой культуры, которая проповедует культ грубой силы, обмана, грабежа и насилия.
Низменные чувства, нравы и тела обнажены до безобразия. Диспропорция плотского и духовного начал многократно усилилась и уверенно сползает к недопустимой грани, за которой пропасть - гибель основных духовных ценностей, хаос, конец разумной жизни на Земле задолго до второго пришествия.
Только небольшая часть людей, выполняя роль рецепторов человеческого социума, ощущает дискомфорт от растущей диспропорции духовного и низменно-материального. Беспокойство, часто подсознательное, побуждает этих провидцев к действию, разновидностей которого множество.
Одним из способов ориентации людей к истине духовного совершенства является обращение к образу Христа Спасителя в литературной форме, которая делает Иисуса Христа и Его учение ближе, легче воспринимаемым для людей, испорченных благами цивилизации.
Автор этой книги сделал серьезную попытку на примере совершенного бога-человека продемонстрировать гармонию божественного и земного, создать художественный образ абсолютного соответствия духа и плоти, показать людям тот предел, к которому должно стремиться каждому человеку во имя спасения человечества.
Задача эта многотрудная и сверхважная. Решает ее автор оригинальными и интересными средствами.
Читателям судить насколько результат его немалого труда близок к совершенству.
Вячеслав Ушаков, биофизик, профессор.
Роман «Дайте мне имя» (фрагменты)
И утреннее солнце обмануло: лишь однажды его луч пробился к земле, но тотчас небо зловеще затянулось кроваво-бурой пеленой, а солнце так и не показалось.
За день до случившегося (это, кажется, был четверг) все, кто видели его, близкие, друзья и случайные знакомые, все единогласно соглашались с тем, что на нем просто лица не было, хотя он старался ничем не выдать своей тревоги. Весь день он избегал людей и, держась в стороне, о чем-то думал. Было видно, что он не в себе.
За ужином в кругу друзей он почти не шутил, что на него было мало похоже, ничего не ел, разве что отламывал по краюшке от хлеба, то и дело отправляя кусочки в рот и, делясь со всеми, с грустью смотрел в глаза каждого, с кем делился, и что-то тихо говорил, словно наставлял. О чем он говорил - никто вспомнить не мог: так... как всегда... о жизни, о любви, о смысле бытия... как всегда, даже что-то о смерти, но как обычно, без всяких акцентов на чем-то важном...
Пил тоже мало, больше делясь с другими, стараясь, чтобы чаша соседа не была пуста, и все говорил, говорил... Это настораживало, но не настолько, чтобы опасаться за его жизнь. Никому не могло прийти в голову, что такое может случиться.
Кто-то шутливо заметил, что сегодня он похож на ягненка, на что он только улыбнулся, не проронив ни звука в ответ.
Поздно вечером все вышли на воздух, было тихо, сияли звезды, всей гурьбой отправились в сад. Он, говорят, попросил не шуметь. Потом, вспоминают, были жуткие часы муки...
А утром он умер.
На следующий день после смерти все - родные, друзья и просто знакомые в один голос заявят, что предчувствовали беду, но виновато разводя руками, будут объяснять, что, мол, ничем помешать этому не могли, что, мол, кто же мог подумать, что он способен на такое ...
Смерть наступила, видимо, от удушья, но точно до сих пор не установлено. На месте преступления никаких удавок не обнаружили.
Столько лет прошло...
Преступление, конечно, потрясло мир.
Я помню, мне было лет пять или шесть, и это было весной и, кажется, в субботу, мы играли у ручья... По уши в грязи, конечно же, босиком, с задиристыми блестящими глазами, вихрастые мальчуганы, мы строили плотину. Когда перекрываешь ручей, живую воду, пытаешься забить ему звонкое горло желтой вялой мясистой глиной, которая липнет к рукам, вяжет пальцы и мутит прозрачную, как слеза, нетерпеливую воду, кажется, что ты всесилен и в состоянии обуздать не только бурный поток, но и погасить солнце. Я с наслаждением леплю из глины желтые шарики, большие и маленькие и бросаю их что есть мочи во все стороны, разбрасываю камни, и в стороны, и вверх, и в воду: бульк!.. У меня это получается лучше, чем у других. Гладкая вода маленького озера, созданного нашими руками, пенится, просто кипит от такого дождя, и я уже не бросаю шарики, как все, а леплю разных там осликов, ягнят, птичек...
Особенно мне нравятся воробышки. Закусив от усердия губу и задерживая дыхание, острой веточкой я вычерчиваю им клювы, и крылышки, и глаза. Не беда, что птички получаются без лапок, они, лапки, появятся у них в полете, и им после первого же взлета уже будет на что приземлиться. Несколькими воробышками придется пожертвовать: мне нужно понять, как они ведут себя в воздухе. Никак. Как камни. Они летят, как камни, и падают в воду, как камни: бульк! Это жертвы творения. Их еще много будет в моей жизни.
Надо мной смеются, но я стараюсь этого не замечать. Пусть смеются.
Остальные двенадцать птичек оживут в моих руках и в воздухе, и воздух станет для них родной стихией. А мертвая глина всегда будет лежать под ногами. Мертвой. В ней даже черви не заведутся.
Наконец все двенадцать птичек вылеплены и перышки их очерчены, и глаза их блестят, как живые. Они сидят в ряд на берегу озера, как живые, и ждут своей очереди. Я еще не знаю, почему двенадцать, а не шесть и не сорок. Это станет ясно потом.
Я любуюсь своей работой, а они только подсмеиваются надо мной. Это не злит меня: пусть.
Мне нужно и самому подготовиться к их первому полету. Нужно не упасть лицом в грязь перед этими неверами. Чтобы глиняные комочки не булькнули мертвыми грузиками в воду, я должен вложить в них душу. Я беру первого воробышка в руки, бережно, как свечу, и сердце мое бьется чаще. Громко стучит в висках. Я хочу, чтобы эта глина потеплела, чтобы и в ней забилось маленькое сердце. Так оно уже бьется! Я чувствую, как тяжесть глины приобретает легкость облачка и, сжимая его, чувствую, как в нем пульсирует жизнь. Стоит мне только расправить ладони,- и этот маленький пушистый комочек, только-только проклюнувшийся ангел жизни устремится в небо. Я разжимаю пальцы: фрррр! Никто этого "фрррр" не слышит. Никто не замечает первого полета. Я ведь не размахиваюсь, как прежде, чтобы бросить птичку в небо, и не жду, когда она булькнет в воду, я только разжимаю пальцы: фрррр! Я не жду даже их насмешек, а беру второй комочек. Когда я чувствую тепло и биение маленького сердца, тут же разжимаю пальцы: чик-чирик! Это веселое "чик-чирик" вырывается сейчас из моих ладоней, чтобы потом удивить мир. Чудо? Да, чудо! Потом это назовут чудом, а пока я в этом звонком молодом возгласе слышу нежную благодарность за возможность оторваться от земли: спасибо!
Пожалуйста...
...и беру следующий комочек. Все, что я сейчас делаю - мне в радость. Когда приходит очередь пятого или шестого воробышка, кто-то из моих сверстников, несясь мимо меня, вдруг останавливается рядом и замерев, смотрит на мои руки. Он не может поверить собственным глазам: воробей в руках?!!
- Как тебе удалось поймать?
Я не отвечаю.
Кто-то еще останавливается, потом еще. Бегающие, прыгающие, орущие, они вдруг стихают и стоят. Как вкопанные. Будто кто-то всевластный крикнул откуда-то сверху всем: замрите! И они замирают. Все смотрят на меня большими ясными удивленными глазами. Что это? - вот вопрос, который читается на каждом лице. Если бы я мог видеть себя со стороны, то, конечно же, и сам был бы поражен. Нежный зеленовато-золотистый нимб вокруг моей головы, словно маленькая радуга опоясал ее и мерцает, как яркая ранняя звезда. Потом этот нимб будут рисовать художники, о нем будут вестись умные беседы, споры... А пока я не вижу себя со стороны.
Я вижу, как они потихонечку меня окружают и не перестают таращить свои огромные глазищи: ух ты! Кто-то с опаской даже прикасается ко мне: правда ли все это?
Правда!
В доказательство я просто разжимаю пальцы.
" Чик-чирик..."
- Зачем ты отпустил?
Я не отвечаю. Я беру седьмой комочек. Или восьмой. Они видят, что я беру глину, а не ловлю птиц руками. Они это видят собственными глазами. Черными, как маслины. И теперь уже не интересуются нимбом, а дрожат от восторга, когда из обыкновенной липкой вялой глины рождается маленький юркий звоночек:
- Чик-чирик...
Это "чик-чирик" их потрясает.
Они стоят, мертвые, с разинутыми от удивления ртами. Такого в их жизни еще не было. Когда последний воробышек взмывает в небо со своим непременным "чик-чирик", они еще какое-то время, задрав головы, смотрят завороженно вверх, затем, как по команде бросаются лепить из глины своих птичек, которых тут же что есть силы бросают вверх. Бросают и ждут.
"Бац, бац-бац... Бульк..."
Больше ничего не слышно.
- Послушай,- кто-то дергает меня за рукав,- посмотри...
Он тычет в нос мне своего воробышка.
- Мой ведь в тысячу раз лучше твоего,- говорит он,- и глазки, и клювик, и крылышки... Посмотри!
Он грозно наступает на меня.
- Почему он не летает?
Я молчу, я смотрю ему в глаза и даже не пожимаю плечами, и чувствую, как они меня окружают. Они одержимы единственным желанием: выведать у меня тайну происходящего.
Я впервые в плену у толпы друзей.
А вскоре их глаза наполняются злостью, они готовы растерзать меня. Они не понимают, что все дело в том, что... Они не могут допустить, что... У них просто нет нимба над головой, и в этом-то все и дело. Я этого тоже не знаю, поэтому ничем им помочь не могу. В большинстве своем они огорчены, но кто-то ведь и достраивает плотину. Ему вообще нет дела до птичек, а радуги он, вероятно, никогда не видел, так как мысли его увязли в липкой глине. Затем они бегут домой, чтобы рассказать родителям об увиденном. Они фискалят, доносят на меня и упрекают в том, что я что-то там делал в субботу. Да, делал! Что в этом плохого? И наградой за это мне теперь звонкое "чик-чирик". Разве это не радость для ребенка?
Я сижу в своей мастеpской...
Не пpошло и недели, как здесь pаботали. Я вижу стаpый pасшатанный веpстак, опилки в углу, топоp, тоpчащий в бpевне. Все в пыли. Угол окна затянут паутиной. Запустение цаpит здесь с тех поp, как я отказался от заказов. Я сижу в плаще, без платка на голове, ощущая босыми ногами пpохладу каменного пола. Солнце уже взошло и его лучи нашли на полу сиpотливую pоссыпь гвоздей, котоpые уже никогда никому не понадобятся. Последний кpест из белого деpева, котоpый я так стаpательно мастеpил, печально пpиник к стене, уpонив кpепкие плечи. Значит, кто-то еще поживет на свете. Я сижу на табуретке и игpаю ножиком, всегда выpучавшим меня пpи изготовлении свиpелей, до сих пор пользующихся успехом у пастухов. Гpустно смотpеть: пыль, паутина, печальный кpест. Как будто здесь обитает покойник. Пилы тоже пpипылены, хотя зубы их еще скалятся ( я вижу - не только скалятся, но и весело выблескивают, готовые впиться в какую-нибудь молодую смоковницу ). Молотки сунуты в глиняные гоpшки с водой, чтобы не pассыхались pукоятки. Но вода высохла. А молотки хотят пить. Что еще пpибито пылью: небольшие скамеечки, pеечки под столом, глинянная посуда с остатками еды. Все бpошено, словно мастеpскую покидали в спешке.
Дpевко копья у стены - чистенькое, будто только что с веpстака. Этим дpевком еще могут воспользоваться. Нужно насадить наконечник, и копье можно пускать в дело. Книга на столе. Завернутая в чистую тpяпицу, она у меня всегда в чистоте. Я люблю, когда вокpуг цаpит поpядок, но больше всего мне нpавится поpядок, котоpый цаpит у меня в голове. Пахнет пылью, частички котоpой пляшут в воздухе кpохотными светлячками в солнечных лучах. Танец остановленного вpемени. Я все еще сижу на скамье, игpая ножиком. Что касается хозяина мастеpской, то опpеделенно можно сказать, что pаботать ему здесь нpавилось. Тесать, колоть, пилить, стpогать ему было в удовольствие. Вбивать гвозди в дpевесину и слышать, как поет стеpжень от меткого удаpа молотка, ему нpавилось. Он, веpоятно, любил сидеть вечеpами у огня и, отпивая маленькими глоточками кислое вино, в одиночестве читать свои книги...
В одиночестве?
Были прелестные вечера, когда здесь царила женщина.
- Ты у меня,- говорила она,- сама нежность...
И он готовил ужин. И завтрак... Господи, неужели это когда-то было?
У нас всегда был запас вина, вероятно, поэтому так ужасны пустые кpужки. Я беpу ее кpужку и pассматpиваю дно. Да, остатки вина высохли. Я нюхаю, чтобы удостовериться, что исчез и его запах. Зачем я пpислушиваюсь? Чтобы убедиться, что никто ко мне не придет? Да и кто может пpийти сюда теперь?
С Pией мы были здесь счастливы.
Но мало ли кто может вспомнить о стаpом заказе? Вдpуг кому-то сpочно понадобилось копье. Или, скажем, кpест. Кpесты ведь всегда кому-нибудь да нужны. Я хочу, чтобы хоть кто-то пpишел. Если не считать мышки, котоpая всегда шуpшит в кучке соломы - тишина. Как ночью на веpшине гоpы. Я вижу: ее платок на гвозде. Pишка. Я пpоизношу ее имя и пpислушиваюсь - шепот нежной любви. Я не кpичу, не бегу, спотыкаясь, к выходу, не ищу ее сpеди запаха тpав. Мне не удастся уже зажечь лучину и pаздуть снова костеp нашей любви. А то бы... А то бы заpево пожаpа осветило все, что твоpится в моей душе. Я зашел сюда, чтобы взять свой ножичек, котоый может еще мне пpигодиться: свиpели нужны будут всегда. Их звуки, надеюсь, еще будут зазывать стада.
Видимо, я напpасно сижу здесь с босыми ногами на каменном полу с непокpытой платком головой в ожидании кого-нибудь из своих знакомых, отчаявшись pазжечь огонь, кpохотную лучину, котоpую можно было бы поднести к сухой стpужке в углу и ждать, когда появится пеpвый сизый вьюнок, а затем затpещат сухие опилки, пеpедавая огонь pейкам, что на полу, и скамеечкам, и дpевку копья, ждать, пока огонь не пеpекинется к подпоpкам кpыши и к веpстаку и, наконец, не станет лизать жиpным кpасным языком остов кpеста, подpумянивая его белые бока. Чтобы кpест никому не понадобился. Какое-то вpемя платок Рии, висящий в отдалении на стене, будет нетpонутым. Но вскоpе огонь подкрадется и к платку...
Ее запахи сменит сначала запах теpпкого злого дpевесного дыма, а затем и платок вспыхнет маленьким славным пожаром и сгоpит в один миг, как сгоpает звезда...
Свою стаpую, толстую, мудpую книгу я вынесу из пожара. Она мне еще понадобится.
Шлепая босыми ногами по каменному полу, я напpавляюсь к выходу, оставляя за собой сизый дым пожаpа, котоpый никогда не вспыхнет, потому, что нет огня, способного пpевpатить в пепел пpожитые здесь годы.
Ее идея о строительстве собственного дома, в котором мы сможем жить вместе, наконец вместе, приводит меня в восторг. Теперь у Рии земля просто горит под ногами, ее невозможно удержать, она выбирает место то на берегу реки, то у моря, а то где-нибудь у подножья горы или даже на самой вершине, чтобы мир, говорит она, был перед нами, как на ладони, и мы могли бы первыми встречать восход и любоваться закатом, а потолки будут, мечтает она, высокими, комнаты просторные с большими окнами на восток, чтобы дети наши каждое утро, просыпаясь, шептались с солнцем, и полы будут из ливанского кедра, у тебя будет отдельная комната, настаивает она, чтобы ты мог спокойно заниматься своими важными делами, а спать будем вместе, наконец вместе! восклицает она, да, наконец, и каждый день я буду кормить тебя чем-нибудь вкусным, скажем, копченой курицей или дичью, или жареной рыбой, и вино будем пить красное или белое, какое пожелаешь, из нашего подвала, а потом, ты будешь, она закрывает глаза и улыбается, ты будешь нести меня на руках в спальню, нашу розовую спальню, и мы с тобой...
Ее можно слушать целый день и всю ночь, бесконечно... Когда ее глаза переполнены мечтой о счастье, о собственном доме, или , скажем, о детях, наших детях, чьи голоса вот-вот зазвенят в этом доме, слезы радости крохотными бусинками вызревают в уголках этих дивных глаз и мне тоже трудно удержать себя от слез. И вот мы уже плачем вместе.
Вскоре я уже таскаю песок, цемент, скоблю стены, долблю всякие там бороздки и канавки, теша себя надеждой на скорое новоселье, тешу стояки и планки, нужна глина, и я рою ее в каком-то рву, тужусь, тащу... Проблема с водой разрешается легко, а вот, чтобы добыть гвозди, приходится подсуетиться, дверные ручки ждут уже своего часа, вот только двери установят, и ручки уже тут как тут, очень тяжеловесной оказалась входная дверь, зато прочность и надежность ее не вызывают теперь сомнений. А вот что делать с купальней - это пока вопрос. И какие нужны унитазы - розовые или бежевые, может быть, кремовые или бирюзовые, римский фаянс или греческий?.. Пока нам очень нелегко выбрать цвет керамики, на которой ведь тоже нужно оставить свой след в истории. И вообще вопросов - рой!
Проходит неделя...
Куда девать весь этот строительный мусор?! Я сгребаю его руками, пакую в корзины и таскаю их на свалку одна за одной, одна за другой... До вечера, до ночи. А рано утром привозят вьюки с камнями, которые пойдут на простенок. Не покладая рук, я таскаю их в дом, аккуратненько складываю и тороплюсь уже за досками. Не покладая ног.
- Ты не устал? Отдохни.
- Что ты!
Строительство идет полным ходом, и Рия вне себя от счастья. Нарядившись в легкое цветастое платьице, она сама принимает решения и выглядит невестой. Она ни в чем мне не доверяет. И то я делаю не так, и это. Она вооружается мастерком и сама кладет стену, затем заставляет меня развалить ее и снова кладет. Ей не нравится, как я прорубил в стенке канавку.
- Вот смотри,- поучает она,- и ударяет себя молотком по пальчику. Я бросаюсь было ей на помощь, но из глаз ее летят искры.
Приходит лето.
- Я хочу, хочу чуда, малыш... Удиви меня!
- Ладно...
Ею нельзя не восхищаться. Не знаю другой такой удачи, как своей работой вызывать ее восхищение.
Теперь глаза ее - как ночное небо: чем больше смотришь, тем больше звезд.
Вызывать к себе симпатию любимой женщины, это одна из сладчайших радостей в моей жизни. И я снова закатываю рукава.
Целыми днями мы заняты стройкой, а вечером обо всем забываем, бросаемся в объятия друг друга, а утром все начинается снова.
- Ты не забыл заказать эти штучки...
- Не забыл.
Ею нельзя не восхищаться.
- Я так люблю тебя,- признается она,- у тебя такой дом...
Я прекрасно осознаю, что это признание случайно вырвалось у нее, что она восхищается мной, а не моим домом, мной, а не белыми мраморными ступенями, мной, а не просторной солнечной спальней с высоким розовым потолком, мной...
Еще только макушка лета, а мы уже столько успели!
- Слушай,- как-то предлагаю я,- мы выстроим наш дом в виде пирамиды!..
- Совершеннейший бред! Какой еще пирамиды?
Я рассказываю.
- Где царит гармония, где мера, вес и число будут созвучны с музыкой Неба...
- Какая еще мера, какое число?..
Рия не только удивлена, она разочарована.
- Зачем тебе пирамиды, эти каменные гробы?
Иногда я допускаю промахи и Рия, по-прежнему восхищаясь мною, указывает на них.
- Разве ты не видишь, что рейка кривая, замени ее.
Я с радостью рейку меняю.
Когда дело общее и работа движется споро, когда каждый день видишь, как вызревыют плоды совместных усилий, когда радость наполняет каждую клеточку любимого тела, стараешься еще больше, еще упорнее преодолеваешь трудности, не замечая ни жары, ни усталости...
И вот я уже вижу: дом ожил. Мертвые камни, мертвые стены, мертвые глаза пустых окон вдруг заговорили, вдруг задышали, засияли на солнце.
Дом ожил!
Празднично зашептали занавески, засверкала зеркалами веселая спальня, засветились стекла, засмеялись запрыгали на стене солнечные зайчики, заструились, заиграли радугой водяные волосы фонтана...
Дом ожил!
А наш пес, рыжий пес, который так любит мирно ютиться у наших ног, вдруг залился радостным лаем. И ему наш дом нравится!
И у меня появляется такое чувство, будто мы созидаем шатер для любви. Нет - дворец... Даже храм! Точно - Храм!
Но праздник не может продолжаться вечно, и, бывает, в спешке что-нибудь да упустишь. Тогда трудно сдержать раздражение.
- Зачем же ты метешь?! Я только что выбелила стену.
- Извини.
- Какой ты бестолковый.
Это правда.
А утром снова я полон сил и желания, и мышечной радости: я горы переверну! Рия верит, но промахи замечает.
- Слушай, оставь окно в покое, я сама...
Ладно.
- И откуда у тебя только руки растут?..
Я смотрю на нее, любуясь, молчу виновато. Затем рассматриваю поперечину, на которой можно повеситься.
- …а здесь будет наша купальня...
Размечтавшись, Рия прикрывает глаза, и я спешу чмокнуть раскрасневшуюся щечку.
- Слушай! А комнаты раскрасим в разные цвета: спальня - красная, яростная, для страстей, абрикосовая гостиная...
- А мой рабочий кабинет...
- А твой кабинет будет в спальне!
- В спальне?..
- Хм! Конечно!.. А там будет библиотека, и все твои книжки, все твои умные книжки мы расставим на полочки одна к одной, друг возле дружки... Наша библиотека будет лучшей в округе, правда?
- В стране.
Ее невозможно не любить.
- Там - камин. А там - комната для гостей... Мы пригласим всех твоих лучших друзей, и всех этих чокнутых и бродяг, горбатых и прокаженных... Пусть... Мы растопим камин...
Рия не знает, что я отмечен даром творца и приглашает молодого архитектора, который готов, я вижу, не только руководить строительством, но и самолично скоблить пол или окна, таскать мусор на свалку, а время от времени приносить кувшинчик с вином и пить с Рией в мое отсутствие.
На здоровье! Только бы Рия была довольна ходом событий.
Она рада.
И молодой архитектор рад. Обнажив свой прекрасный торс, он готов прибивать и пилить, и долбить, и красить...
И я рад.
Он готов жениться на Рие!
Я рад.
Проходит лето...
О жить бы нам в шалаше из тростника и бамбука на берегу Генисаретсого озера! Мы бы ночи напролет слушали шепот волн, воркование птиц, гнездящихся в кронах деревьев и друг друга, да, и друг друга.
К осени становится ясно, что к зимней прохладе нам не удастся поселиться в новом доме. Вечерами Рия теперь молчалива. Мои слова не производят на нее впечатления, а ласки, я понимаю, просто неуместны. Глаза, ее большие красивые дивные родные глаза - непостижимая лазурь! - полны бездонной печали, милые плечи сникли и, кажется, что и сама жизнь оставила это славное молодое тело.
- Ришечка...
- Уйду...
- Послушай,- говорю я,- послушай, родная моя, я ведь не могу больше...
- Все могут, все могут, а ты...
Рия разочарована. Я целую ее, но в ее губах уже не чувствую жизни
- Знаешь,- говорю я,- мне всегда хотелось проводить с тобой времени столько, сколько того требует сердце, и я всегда готов... Ты же знаешь, что все, за что я не берусь, обречено на удачу... Тебе кажется, что я чересчур занят своими горшками, нет...
Моя попытка вдохнуть в нее жизнь безуспешна, к тому же я не нахожу возможности, просто ума не приложу, как нам помочь в нашем горе. Был бы я Богом, не задумываясь подарил бы ей этот мир, а был бы царем - выстроил бы дворец или замок, или даже башню на краю утеса. Из мрамора! Или хрусталя. А так я только строю планы на будущее, в котором не нахожу места нашему замку. Понятно ведь, что, когда дом построен...
Здесь нужна особая мягкость и сторожкость, чтобы она не упала в обморок.
- ... и ты ведь не хуже моего знаешь,- говорю я,- и в этом нет никакого секрета, что, когда дом выстроен, в него потихоньку, словно боясь чего-то, оглядываясь и таясь, чуть вздрагивая и замирая, то и дело озираясь и как бы шутя, на цыпочках, как вор, но настойчиво и неустанно, цепляясь за какие-то там зацепки, чуть шурша подолом и даже всхлипывая, подшмыгивая себе носом и, наверняка со слезами горечи на глазах, но напористо и упорно, почти бесшумно, как тать, но твердо и уверенно, крадя неслышные звуки собственных шагов и приглушая биение собственного сердца, но не робко, а удивительно смело, как движение клинка... В него входит смерть...
Она не понимает.
- Как так "входит смерть"?
- Да,- говорю я,- вползает гадюкой...
Она смотрит на меня своим ясными, как у ребенка, глазами и не понимает. И я снова рассказываю:
- ... ты ведь не можешь не знать,- говорю я,- чт
|
480.
Владимир
(22.01.2007 08:04)
ВЕСЕННИЕ ЗАБАВЫ
Я помню, мне было лет пять или шесть, и это было весной и, кажется, в субботу, мы играли у ручья... По уши в грязи, конечно же, босиком, с задиристыми блестящими глазами, вихрастые мальчуганы, мы строили плотину. Когда перекрываешь ручей, живую воду, пытаешься забить ему звонкое горло желтой вялой мясистой глиной, которая липнет к рукам, вяжет пальцы и мутит прозрачную, как слеза, нетерпеливую воду, кажется, что ты всесилен и в состоянии обуздать не только бурный поток, но и погасить солнце. Я с наслаждением леплю из глины желтые шарики, большие и маленькие и бросаю их что есть мочи во все стороны, разбрасываю камни, и в стороны, и вверх, и в воду: бульк!.. У меня это получается лучше, чем у других. Гладкая вода маленького озера, созданного нашими руками, пенится, просто кипит от такого дождя, и я уже не бросаю шарики, как все, а леплю разных там осликов, ягнят, птичек... Особенно мне нравятся воробышки. Закусив от усердия губу и задерживая дыхание, острой веточкой я вычерчиваю им клювы, и крылышки, и глаза. Не беда, что птички получаются без лапок, они, лапки, появятся у них в полете, и им после первого же взлета уже будет на что приземлиться. Несколькими воробышками придется пожертвовать: мне нужно понять, как они ведут себя в воздухе. Никак. Как камни. Они летят, как камни, и падают в воду, как камни: бульк! Это жертвы творения. Их еще много будет в моей жизни. Надо мной смеются, но я стараюсь этого не замечать. Пусть смеются. Остальные двенадцать птичек оживут в моих руках и в воздухе, и воздух станет для них родной стихией. А мертвая глина всегда будет лежать под ногами. Мертвой. В ней даже черви не заведутся. Наконец все двенадцать птичек вылеплены и перышки их очерчены, и глаза их блестят, как живые. Они сидят в ряд на берегу озера, как живые, и ждут своей очереди. Я еще не знаю, почему двенадцать, а не шесть и не сорок. Это станет ясно потом. А пока что, я любуюсь своей работой, а они только подсмеиваются надо мной. Это не злит меня: пусть. Мне нужно и самому подготовиться к их первому полету. Нужно не упасть лицом в грязь перед этими неверами. Чтобы глиняные комочки не булькнули мертвыми грузиками в воду, я должен вложить в них душу. Я беру первого воробышка в руки, бережно, как свечу, и сердце мое бьется чаще. Громко стучит в висках. Я хочу, чтобы эта глина потеплела, чтобы и в ней забилось маленькое сердце. Так оно уже бьется! Я чувствую, как тяжесть глины приобретает легкость облачка и, сжимая его, чувствую, как в нем пульсирует жизнь. Стоит мне только расправить ладони,- и этот маленький пушистый комочек, только-только проклюнувшийся ангел жизни устремится в небо. Я разжимаю пальцы: фрррр! Никто этого "фрррр" не слышит. Никто не замечает первого полета. Я ведь не размахиваюсь, как прежде, чтобы бросить птичку в небо, и не жду, когда она булькнет в воду, я только разжимаю пальцы: фрррр! Я не жду даже их насмешек, а беру второй комочек. Когда я чувствую тепло и биение маленького сердца, тут же разжимаю пальцы: чик-чирик! Это веселое "чик-чирик" вырывается сейчас из моих ладоней, чтобы потом удивить мир. Чудо? Да, чудо! Потом это назовут чудом, а пока я в этом звонком молодом возгласе слышу нежную благодарность за возможность оторваться от земли: спасибо!
Пожалуйста...
И беру следующий комочек. Все, что я сейчас делаю - мне в радость. Когда приходит очередь пятого или шестого воробышка, кто-то из моих сверстников, несясь мимо меня, вдруг останавливается рядом и замерев, смотрит на мои руки. Он не может поверить собственным глазам: воробей в руках?!!
- Как тебе удалось поймать?
Я не отвечаю. Кто-то еще останавливается, потом еще. Бегающие, прыгающие, орущие, они вдруг стихают и стоят. Как вкопанные. Будто кто-то всевластный крикнул откуда-то сверху всем: замрите! И они замирают. Все смотрят на меня большими ясными удивленными глазами. Что это? - вот вопрос, который читается на каждом лице. Если бы я мог видеть себя со стороны, то, конечно же, и сам был бы поражен. Нежный зеленовато-золотистый нимб вокруг моей головы, словно маленькая радуга опоясал ее и мерцает, как яркая ранняя звезда. Потом этот нимб будут рисовать художники, о нем будут вестись умные беседы, споры... А пока я не вижу себя со стороны. Я вижу, как они потихонечку меня окружают и не перестают таращить свои огромные глазищи: ух ты! Кто-то с опаской даже прикасается ко мне: правда ли все это? Правда! В доказательство я просто разжимаю пальцы.
" Чик-чирик..."
- Зачем ты отпустил?
Я не отвечаю. Я беру седьмой комочек. Или восьмой. Они видят, что я беру глину, а не ловлю птиц руками. Они это видят собственными глазами. Черными, как маслины. И теперь уже не интересуются нимбом, а дрожат от восторга, когда из обыкновенной липкой вялой глины рождается маленький юркий звоночек:
- Чик-чирик...
Это "чик-чирик" их потрясает. Они стоят, мертвые, с разинутыми от удивления ртами. Такого в их жизни еще не было. Когда последний воробышек взмывает в небо со своим непременным "чик-чирик", они еще какое-то время, задрав головы, смотрят завороженно вверх, затем, как по команде бросаются лепить из глины своих птичек, которых тут же что есть силы бросают вверх. Бросают и ждут.
"Бац, бац-бац... Бульк..."
Больше ничего не слышно.
- Послушай,- кто-то дергает меня за рукав,- посмотри...
Он тычет в нос мне своего воробышка.
- Мой ведь в тысячу раз лучше твоего,- говорит он,- и глазки, и клювик, и крылышки... Посмотри!
Он грозно наступает на меня.
- Почему он не летает?
Я молчу, я смотрю ему в глаза и даже не пожимаю плечами, и чувствую, как они меня окружают. Они одержимы единственным желанием: выведать у меня тайну происходящего. Я впервые в плену у толпы друзей.
А вскоре их глаза наполняются злостью, они готовы растерзать меня. Они не понимают, что все дело в том, что... Они не могут допустить, что... У них просто нет нимба над головой, и в этом-то все и дело. Я этого тоже не знаю, поэтому ничем им помочь не могу. В большинстве своем они огорчены, но кто-то ведь и достраивает плотину. Ему вообще нет дела до птичек, а радуги он, вероятно, никогда не видел, так как мысли его увязли в липкой глине. Затем они бегут домой, чтобы рассказать родителям об увиденном. Они фискалят, доносят на меня и упрекают в том, что я что-то там делал в субботу. Да, делал! Что в этом плохого? И наградой за это мне теперь звонкое "чик-чирик". Разве это не радость для ребенка?
Им это ведь и в голову не может прийти: я еще хоть и маленький, но уже Иисус…
Ф О Р А
Гроб устанавливают на крепкий свежесрубленный стол, покрытый тяжелым кроваво-красным плюшем. Мне приходится посторониться, а когда гроб едва не выскальзывает из чьих-то нерасторопных рук, я тут же подхватываю его, чем и заслуживаю тихое "спасибо". Пожалуйста. Не хватало только, чтобы покойничек грохнулся на пол. С меня достаточно и того, что я поправляю складку плюша, задорно подмигивающего своими сгибами в лучах утреннего солнца, словно знающего мою тайну. Нет уж, никаких тайн этот ухмыляющийся плюш знать не может. Боже, а сколько непритворной грусти в глазах присутствующих! Большинство искренне опечалены, но есть и лицемеры, изображающие скорбь. Я слышу горестные вздохи, всхлипы... Ничего, пусть поплачут. Не рассказывать же им, что покойничек жив-живехонек, цел и невредим, просто спит. Хотя врачи и констатировали свой exitus letalis*. Причина смерти для них ясна - остановка сердца. Я это и сам знаю. Но знаю и то, что в жилах его еще теплится жизнь, а стоит мне подойти и сделать два-три пасса рукой у его виска, и покойничек, чего доброго, откроет глаза. Дудки! Я не подойду. Я его проучу.Кто-то оттирает меня плечом, и я не противлюсь. Теперь сверкает вспышка. Снимки на память. Кому-то понадобилась моя рука - чье-то утешительное рукопожатие. Понаприехало их тут, телекорреспонденты, газетчики... Это приятно, хотя слава и запоздала. Кладут цветы, розы, несут венки. Золотистые надписи на черных лентах: "Дорогому учителю и другу..." Золотые слова. А как сверкает медь духового оркестра, который, правда, не проронил еще ни звука, но по всему видно, уже готов жалобно всплакнуть. Я вижу, как устали от слез и глаза родственников. Особенно мне жаль его жен. И первую, и вторую... Жаль мне и Оленьку, так и не успевшую стать третьей женой. Все они едва знакомы, и вот теперь их собрала его смерть. Оленька вся в черном и вся в слезах. Прелестно-прекрасная в своем горе, она стоит напротив. И когда новые озерца зреют в уголках ее дивных больших серых глаз, Боже милостливый! я еле сдерживаю себя, чтобы тоже не заплакать.
- Извините...
- Пожалуйста...
Я вижу, как Оленька, расслышав мое "пожалуйста", настороженно вглядывается в лицо покойника, затем, убедившись, что он-таки мертв, закрывает глаза и снова плачет. Видимо, ей что-то почудилось.Теперь я смотрю на руки усопшего, как и принято, скрещенные на груди.Тонкие длинные пальцы, розовые ногти... Никому ведь и в голову не придет, отчего у покойника розовые ногти. Может быть, у него и румянец на щеках? В жизни он такой краснощекий! Я помню, как три дня тому назад он ввалился в мою комнату со своими дурацкими требованиями. Уступи я тогда и...
- Будьте так добры...Сколько угодно! Я уступаю даме в беличьей шубке и не даю себе труда вспомнить, как там все было. Было и прошло. И точка! Меня интересует теперь эта дама с бархатными розами, которые сквозь стекла очков кажутся черными. Кто бы это мог быть? Я не знаю, зачем я обманываю себя: разве я не знаю ее? Я ведь только делаю вид. Вообще, надо сказать, это удивительно, просто до слез трогательное зрелище - собственные похороны. Мы ведь с покойником близнецы, плоть от плоти. И, если бы на его месте сейчас оказался я, никто бы этого не заметил. А все началось с того... Он просто из кожи лез вон, так старался! Носился со мной, как с писаной торбой. Честолюбец! Ему хотелось мирового признания. Вот и получил. Теперь все газеты будут трубить.
- Сколько же ему было? - слышу я за спиной чей-то шепот.
Ответа нет. Но я и не нуждаюсь в ответе. Ему еще жить и жить... Это-то я знаю. Может быть, Оленька еще и выйдет за него замуж. Выйдет непременно. Не такой уж я злоумышленник, чтобы лишать их земного счастья. Я его лишь маленько проучу. Это будет ему наука.Я все еще не могу взять в толк: неужели он мне не верит? Или недоверяет? Зачем он держит меня в узде?
Дама в шубке тоже смахивает слезу. А с каким открытым живым любопытством Оленька смотрит на эту даму. О чем она думает? Народ прибывает, струится тихим робким ручейком вокруг гроба. Сколько почестей покойнику! Чем ж он так славен? Кудесник, целитель... Профессор! Ну и что с того? Вырастил, видите ли, меня из какой-то там клетки... Ну и что с того? Этим сейчас никого не удивишь. Я протискиваюсь между двумя толстяками поближе к даме с бархатными розами. Вполне вероятно, я рискую быть узнанным и все-таки надеюсь на свой парик. Усы, борода, темные очки, котелок... Вряд ли кому-то придет в голову подозревать во мне двойника. Никто ни о чем даже не догадывается.
Мой котелок!
От толчка в спину он чуть не слетает с головы и мне приходится его снять.
"Осторожно!" - хочу крикнуть я и не кричу. Кто же этот неуклюжий медведь? Беличья шубка! Ее нежная шерстка мнет мне шляпу, которую я уже поднимаю над головой. Мы стоим сжатые, просто впритык, и я, конечно же, узнаю эту даму с бархатными розами. Мне снова хочется крикнуть: "Мама!" Но я не кричу. Я никогда не произнесу этого слова. Я никому его не прошепчу.
- Ради бога, простите... Ваша шляпа...
- Ну что вы, такая давка...
Я вижу, как она внимательно, вскинув вдруг влажные ресницы, изучает меня. На это я только кисло улыбаюсь и напяливаю котелок на парик. Чтобы все ее сомнения развеять.
- Да, - вздыхает она,- у него было много друзей.
Я этого не помню.
Затылком и всей кожей спины я чувствую жадный взгляд Оленьки и кошу глаза - так и есть: мы с беличьей шубкой у нее на прицеле. О чем Оленька может догадываться? Да ни о чем. Шаркая по мрамору своими ботинками, я то и дело спрашиваю себя: кто я теперь? И не нахожу ответа.
А все началось с того, что Артем срезал со своего пальца махонькую бородавку, измельчил ее на отдельные клеточки, взял одну из самых живых и выдавил из нее ядро, свой геном. Рассказывая потом все это, он почему-то ухмылялся: "Ты и есть теперь это ядро..." Много лет я не мог понять причину его ухмылки, и вот теперь...
Я представляю себе, как все было, и вижу себя длинной нитью, скрученной в замысловатый клубок и упрятанной в чью-то яйцеклетку, лишенную собственного ядра. Я даже слышу голос Артема:
- Осторожно, не повреди мембрану...
Он давно говорит сам с собой, я это знаю. Отшельник, паяц. Чего он добивается? Мирового признания! А мне, признаться, не очень-то уютно в этой чертовой яйцеклетке. Какая-то она липкая, вязкая... Как кисель. Это поначалу, я потерплю. Через час я уже чувствую себя вполне хорошо. Мы привыкаем друг к другу и уже шепчемся на своем языке, беззвучно шушукаемся, роднимся. И вскоре живем душа в душу в какой-то розовой жидкости, счастливые, живем как одно целое, единой зиготой, нежимся в теплой темноте термостата. Наш папа, этот лысеватый Артем, нами доволен, доволен собой. Я понимаю: я и есть теперь та зигота. Проходит какое-то время, и меня берут за шкирку, берут как кота. Больно же! А они просто вышвыривают меня из моей розовой спальни. Куда? Что им от меня нужно?
- Это не больно, - говорит Артем, а я ему не верю. Это ужасно больно! И холодно! Словно я голый попал в ледяную прорубь.
- Артем, я боюсь, - слышу я женский голос, - я вся дрожу...
Это меня поражает, но и приводит в восторг: мой лысеющий папа обзавелся женщиной! А я думал, что он холостяк.
- Не надо бояться, родная моя, все будет прекрасно, - шепчет папа и сует меня куда-то... Куда? В полную, жуткую темноту. Меня тут же обволакивает вялая томная теплая нега, я куда-то лечу, кутаюсь в мягкую бархатную кисею и, наверное, засыпаю. Потом я просыпаюсь! Потом я понимаю, куда меня наглухо запечатали - в стенку матки. Целых девять месяцев длится этот невыносимый плен. Такая мука! Лежишь скрюченный, словно связанный, ни шагу ступить, ни повернуться. Слова сказать нельзя, не то, что поорать вдосталь. Набравшись сил, я все-таки рву путы плена и выкарабкиваюсь из этой угрюмой утробы на свет божий и ору. О, ору! Это немалая радость - мой ор! Я вижу их счастливые лица, сияющие глаза.
- Поздравляю, - говорит папа, берет меня на руки и целует маму.
И я расту.
Я не какой-то там вялый сосун. Да уж! Я припадаю к белой груди, полному теплому тугому наливу, и пью, захлебываясь, сосу эту живительную сладкую влагу... Так вкусно! А какое наслаждение видеть себя через некоторое время в зеркале этаким натоптанным крепышом, который вдруг встает и идет, шатаясь и не падая, балансируя ручонками, затем внезапно останавливается и любуется сверкающей струйкой, появившейся внезапно из какой-то пипетки. Вот радость!
Радость проходит, когда однажды приходит папа и, что-то бормоча себе под нос, надевая фартук, берет меня на колени и сует в рот какую-то желтую резинку, надетую на горлышко белой бутылки.
- Ешь, - говорит папа, - на.
На!
Он отчего-то зол и криклив.
- Ешь, ешь!.. - твердит и твердит он.
Такую невкусную бяку я есть не буду. И не подумаю!
- Ешь, - беря себя в руки, упрашивает папа, - пожалуйста...
А где мама? Я не спрашиваю, вопрос написан на моем лице. Мама уехала. Надолго, уточняет папа. Мой маленький мир, конечно, тускнеет - маму никто заменить не может. Даже папа, который по-прежнему что-то бормоча, уже с пеленок учит меня читать, думать, даже фехтовать. Затем передо мной проходит череда учителей. Чему только меня не учат! Я расту на дрожжах знания, легко раскусываю умные задачки, леплю, рисую... Мой коэффициент интеллекта очень высок. Я уже знаю, почему наступает зима, и как взрываются звезды, что есть в мире море и океан, есть рифы, кораллы, киты, носороги, а мой мир ограничен стенами какой-то лаборатории, книгами, книгами...
- А это что,- то и дело спрашиваю я,- а это?
Папа терпеливо объясняеи и почему-то совсем не растет, а я уже достаю до его плеча. Он, правда, делает мне какие-то уколы, и это одна из самых неприятных процедур в моей жизни. Как-то приходит мама. Она смотрит на меня и любуется. Шепчется о чем-то с папой, а затем они встают, идут к двери и зовут меня с собой. Куда? Я еще ни разу не переступал порог этой комнаты. Мы выходим. Мать честная! Я попадаю в царство зелени и цветов, живая трава, ручеек, даже птички... И солнце! Настоящее солнце! Это не какая-то лампа ультрафиолетового света. Над нами большой прозрачный свод, точно мы под огромным колпаком, хотя солнечные лучи сюда свободно проникают. И даже греют. Как много света, а в траве кузнечики, муравьи... Летают бабочки и стрекозы, я их узнаю. А вот маленький ручеек, и в нем есть рыба.
- Поздравляю, - говорит мама, - тебе сегодня уже двадцать.
Мне не может быть двадцать, но выгляжу я на все двадцать два.
- А сколько тебе? - спрашиваю я.
- Двадцать три, - отвечает мама и почему-то смущается.
- А тебе? - спрашиваю я у папы.
Папа медлит с ответом, я смотрю ему в глаза, чтобы не дать соврать. Зря стараюсь: у нас ведь это не принято.
- Сорок, - наконец произносит папа, - зимой будет сорок.
Сейчас лето...
Может быть, мой папа Адам, а мама Ева?
- Нет, - говорит папа, - ты не Каин и не Авель, ты - Андрей.
- А как зовут маму?
- Лиля...
В двадцать лет можно подумать и о выборе жизненного пути. Вечером я говорю об этом папе, который пропускает мои слова мимо ушей. Я вижу, как смотрит на него молодая мама. Она не произносит ни слова, но в глазах ее читается: я же говорила... На это папа только пыхтит своей трубкой и разливает вино. Вино - это такой бесконечно приятный, веселящий напиток, от которого я теряю рассудок и просто не могу не пригласить маму на танец. Мы танцуем... Мои крепкие руки отрывают маму от пола, мы кружимся, кружимся, и вот уже какая-то неведомая злая сила пружиной сжимает мое тело, ее тело, наши тела, а внутри жарко пылает живой огонь... Что это? Что случилось? Я теряю над собой контроль, сгребая маму в объятья...
- Мне больно...
Я слышу ее тихий шепот, чувствую ее горячее дыхание.
- Потише, Андрей, Андрей...
Но какая музыка звучит у меня внутри, какая музыка...
- Лиля, нам пора.
Это Артем. Он все испортил! Плеснул в наш огонь ледяной водой. Вскоре они уходят, а я до утра не могу сомкнуть глаз. Такого со мной еще не было. Через неделю я набираю еще несколько килограммов, а к поздней осени почти сравниваюсь с Артемом. Мы так похожи - не отличишь. Это значит, что половина жизни уже прожита. Но то, чем я жил... Я ведь нигде еще не был, ничего не видел, никого не любил... Или Артем готовит для меня вечную жизнь? На этот счет он молчит, да и я не лезу к нему с расспросами. Единственное, что меня мучает - пластиковый колпак над головой. Я бы разнес его вдребезги. Надоели мне и таблетки, и уколы, от которых уже ноет мой зад. Однажды утром я подхожу к бетонной стене, у которой лежит валун, становлюсь на него обеими ногами и, задрав голову, смотрю сквозь прозрачный пластик крыши на небо. Там - воля. Ради этого стоит рискнуть? Поскольку мне не с кем посоветоваться, я беру лопату. Подкоп? Ага! Граф Монте-Кристо...
Трудно было сдвинуть валун. Была также опасность быть пойманным на горячем. А куда было девать песок? Я перемешиваю его с землей и сую в нее фикус: расти. Можно было бы выбраться другим путем, но дух романтики пленил меня. Уже к вечеру следующего дня я высовываю голову по другую сторону бетонной стены. А там - зима! Я возвращаюсь домой и собираюсь с мыслями. Артем ничего не подозревает. У него какие-то трудности. Доходит до того, что он орет на меня, топает ногами и брызжет слюной. Но я спокойно, вполне пристойно и с достоинством, как он меня и учил, переношу все его выходки, и это бесит его еще больше. Истерик. С этими гениями всегда столько возни. Мир это знает и терпит. Или не терпит...
Бывает, что я в два счета решаю какую-нибудь трудную его задачку, и тогда он вне себя от ярости.
- Да ты не важничай, не умничай,- орет он,- я и без твоей помощи... Я еще дам тебе фору!
На кой мне его фора?
Я выбираю момент, когда ему не до меня, и, прихватив с собой теплые вещи, лезу в нору. Выбираюсь из своего кокона наружу, на свет Божий. Природа гневно протестует: стужа, ветер, снежная метель... Повернуть назад? Нет уж! Никакими метелями меня не запугаешь. Каждый мой самостоятельный шаг - это шаг в новый мир. Прекрасно! Я иду по пустынной улице мимо холодных домов, под угрюмым светом озябших фонарей, навстречу ветру... Куда? Я задаю себе этот вопрос, как только покидаю свой лаз: куда? Мне кажется, я давно знаю ответ на этот вопрос, знаю, но боюсь произнести его вслух. Потом все-таки произношу: "К Лиле..."
- К Лиле!..
Своим ором я хочу победить вой ветра. И набраться смелости. Разве я чего-то боюсь? Этот маршрут я знаю, как собственную ладошку: много раз я бывал здесь, но всегда под присмотром Артема. Теперь я один. Мне не нужен поводырь. Мне кажется, я не нуждаюсь в его опеке. Я просто уверен в этом. Это я могу дать ему фору! В чем угодно и хоть сейчас!
- Привет,- произношу я, открывая дверь ключем Артема.
- А, это ты...Ты не улетел?
- Я отказался.
- От чего отказался, от выступления?
- Ага...
Отказываться от своей роли я не собираюсь.
Какая она юная, моя мама. Я никогда еще не видел ее в домашнем халате.
- А что ты скажешь своей жене? Она же узнает.
Разве у Артема есть жена? Я этого не знал.
- Что надо, то и скажу.Пусть узнает.
Не ожидая от меня такого ответа, Лиля смотрит на меня какое-то время с недоумением, затем снова спрашивает:
- Что это ты в куртке? Мороз на дворе.
- Да,- говорю я,- мороз жуткий, винца бы...
Потом Лиля уходит в кухню, а я, по обыкновению, иду в ванную и вскоре выхожу в синем халате Артема. Мы ужинаем и болтаем. Потихоньку вино делает свое дело, и я вспоминаю его веселящий дух. Бывает, я что-нибудь скажу невпопад, и Лиля подозрительно смотрит на меня. Я на это не обращаю внимания, пью свой коньяк маленькими глоточками, хотя мне больше нравится вино.
- Что-нибудь случилось?
- Нет, ничего,- я наполняю ее фужер,- а что?
Молчание.
- А где твое обручальное кольцо?
- Я снял...
- Оно же не снимается...
- Я распилил...
Не произнося больше ни слова, Лиля встает, молча убирает со стола, затем молча моет посуду. А мне вдруг становится весело. Какая все-таки удивительная штука этот коньяк. Я снова наполняю cвою рюмку до краев и тут же выпиваю. И, чтобы из бавиться от неприятного чувства жжения, тут же запиваю остатками вина из фужера. И вот я уже чувствую, как меня одолевает безудержно-неистовый хмель желания, а в паху зашевелился мерзавец, безмерно полнокровный господин...
- Что ты делаешь?
А я уже стою рядом и тянусь губами к ее шее.
- Что с тобой?
А я беру ее за плечи, привлекаю к себе и целую. Ее тело все еще как тугой ком.
- Ты остаешься?
- Да,- шепчу я,- конечно...
- Зачем ты снял кольцо?
- Да,- говорю я,- я решил.
- Правда?
- Я развожусь.
- Правда? И ты на мне женишься?
Я чувствую, как она тает в моих объятиях, беру ее на руки и несу, сдергивая с ее податливого тельца желтый халат... Несу в спальню... Потом мы лежим и молча курим. Мягкого света бра едва хватает, чтобы насладиться уютом спаленки, но вполне достаточно, чтобы видеть блеск ее счастливых глаз.
- Хочешь,- спрашивает она вдруг,- хочешь, я рожу тебе сына?
- Можно...
- Настоящего. Хочешь? А не такого...
Я не уточняю, что значит "такого", я говорю:
- Ты же знаешь, как я мечтаю об этом.
- Ты, правда, разведешься?
- Я же сказал,- отвечаю я, беру ее сигарету и бросаю в пепельницу. И снова целую ее... Это такое блаженство.
Ровно в два часа ночи, когда Лиля, утомленная моими ласками, засыпает, я только вхожу во вкус, встаю и, чтобы не разбудить ее, на цыпочках иду в кухню. Я не ищу в записной книжке Артема телефон Оли, я хорошо помню его.
- Эгей, это я, привет...
- Ты вернулся? Ты где?
- В аэропорту.
- Артем, я с ума схожу, знаешь, я...
- Я еду...
Я кладу трубку, одеваюсь и выхожу. Ну и морозище! Роясь в карманах папиной куртки, я нахожу какие-то деньги, и мне удается поймать такси. Я еще ни разу не переступал порог Олиной квартиры и был здесь в роли болванчика, ожидавшего Артема в машине, пока он... пока они там...
Теперь я ему отомщу.
Я звоню и вижу, что дверь приоткрыта... и вдруг, о, Боже! Господи милостивый! Дверь распахивается, и Оленька, Оленька, как маленькая теплая вьюжка, как шальная, бросается мне на шею и целует меня, целует, плача и смеясь, и плача...
- Ну что ты, родная,- шепчу я,- ну что ты...
- Я так люблю тебя, Артем...
Я несу ее прямо в спальню...
- Ты пьян?
- Самолет не выпускали, мы сидели в кафе...
- Артем, милый... Я больше тебя никуда не пущу, никому не отдам... Ладно, Артем? Ну скажи...
Никакой я не Артем, я - Андрей!
- Конечно,- шепчу я на ушко Оленьке,- никому...
Потом мы набрасываемся на холодную курицу, запивая мясо вином, и, насытившись, снова бросаемся в объятья друг другу. Мы просто шалеем от счастья...
Наутро я в своей теплице. Весь день я отсыпаюсь, а к вечеру ищу куртку Артема. Я не даю себе отчета в своих поступках (это просто напасть какая-то), ныряю в свой лаз... Куда сегодня? Предверие ночи, зима, лютый холод... Куда же еще - домой! Я звоню и по лицу жены Артема, открывшей мне дверь, вижу, что меня здесь не ждут.
- Что случилось?- ее первый вопрос.
Я недовольно что-то бормочу в ответ, мол, все надоело...
- Почему ты в куртке, где твоя шуба?..
Далась им всем эта куртка!
Затем я просто живу... В собственном, так сказать, доме, в своей семье, живу
жизнью Артема. Я ведь знаю ее до йоточки. Пока не приезжает Артем. А я не собираюсь уступать ему место, сижу в его кресле, курю его трубку... Он входит.
- Привет, Андрей, ты...
Это "ты" словно застряло у него в горле. Он стоит в своей соболиной шубе, в соболиной шапке...
- Как ты здесь оказался?...
Что за дурацкий вопрос!
Входит жена, а за нею мой сын... Мой?
Что, собственно, случилось, что произошло?
Я не даю им повода для сомнений:
- Андрей! - Я встаю, делаю удивленные глаза, вынимаю трубку изо рта и стою пораженный, словно каменный,- ты как сюда попал? И зачем ты надел мою шубу?
Я его проучу!
Артем тоже стоит, как изваяние, с надвинутой на глаза шапкой, почесывая затылок. Вот это сценка! А ты как думал!
Тишина.
Затем Артем сдергивает с себя шубу, срывает шапку...
Лишь на мгновение я тушуюсь, но этого достаточно для того, чтобы у нашей жены
случился обморок. Она оседает на пол, и я, пользуясь тем, что все бросаются кней, успеваю выскользнуть из квартиры.
Ну и морозище!
К Оленьке или к Лиле? Куда теперь?
Я дал слабинку, и это мой промах. Я корю себя за то, что не устоял. Пусть бы Артем сам расхлебывал свою кашу. Чувствуя за собой вину, я все-таки лезу в своюнору. Да идите вы все к чертям собачьим!
Артем, я знаю, сейчас примчится...
И вот я уже слышу его шаги...
- Ах ты сукин сын!..
Я пропускаю его слова мимо ушей. Это - неправда!
- Ты ничтожество, выращенное в пробирке, жалкий гомункулюс, стеклянный болван! Ну это уж явная ложь. Какое же я ничтожество, какой же я стеклянный? Я весь из мяса, из плоти, живой, умный, сильный... Я - человек! Я доказываю ему это стоя, тараща на него свои умные черные глаза, под взглядом которых он немеет, замирает, а я уже делаю пассы своими крепкими, полными какой-то злой силы руками вокруг его головы, у его груди... Через минуту он как вяленая вобла. Я беру его под мышки как мешок, усаживаю в кресло и напоследок останавливаю сердце, а вдобавок и дыхание. Пусть поостынет...
И вот я стою у его гроба, никому не знакомый господин с котелком на башке...
Откуда он взялся, этот котелок, на который все только и знают, что пялиться. Дался им этот котелок! Зато никто не присматривается ко мне. Даже Оленька ко мне равнодушна. А как она убивается по мертвецу! Я просто по черному завидую ему. Ладно, решаю я, пусть живет. Мне ведь достаточно подойти к нему, сделать два-три паса рукой, и он откроет глаза...
Подойти?
И все будет по-прежнему...
Подойти?
А как засияют Оленькины глазки, как запылают ее щечки от счастья.
Я снимаю котелок и, переминаясь с ноги на ногу, стою в нерешительности, затем выхожу на улицу, где такое яркое веселое солнце, и вот-вот уже грянет весна, швыряю котелок куда-то в сторону и ухожу прочь.
Зачем мне этот котелок?
СЕМЯ СКОРПИОНА
И я бросаю свою горсточку земли на крышку гроба, а когда через некоторое время вырастает могильный холмик, кладу свою синюю розу в трескучий костер цветов, которым теперь увенчана его жизнь. Вот и все, кончено... Стоя в скорбной минуте, я роняю несколько скупых слезинок, до сих пор не веря в случившееся, затем тихонечко пробираюсь сквозь частокол застывших тел и, сев в машину, минуту сижу без движения. Ровно минуту, секунда в секунду. Затем включаю двигатель: "Прощай, Андрей". Бесконечно долго тянется день. Как осточертела эта июльская злая жара, этот зной, эта гарь... Наступившие сумерки не приносят облегчения: мне не с кем разделить свое горе. Сижу, пью глоток за глотком этот чертов коньяк в ожидании умопомрачения, но умопомрачение не приходит. Приходит ночь... Господи, как мне прожить ее без тебя? Без тебя, Андрей... "Ты будешь делать то, что я тебе велю!" Я закрываю глаза и слышу твой властный голос. Нет, родной мой, нетушки... Я буду жить, как хочу. Теперь я вольна в своих поступках. Жаль, что ты так и не понял меня, не разглядел во мне свое будущее, свою судьбу. Пыжился ради этой ряженой гусыни, кокетки, дуры... Господи, как же глупы эти мужчины!
"Ты обязана мне по гроб, ты должна..."
Нет, Андрей, нет. Никому я ничем не обязана и не помню за собой долгов. Я вольна, как метель, как птица, как свет звезды. Попробуй, упакуй меня в кокон. Только попробуй!
"Янка, тебе не кажется странным, что твоя маленькая головка наполняется вздором? Как-то вдруг в ней забились мысли..."
Твои слова обидны до слез, и вот я уже плачу... Ах, Андрей... А начиналось все так здорово, так прекрасно... Я отпиваю очередной глоток, кутаюсь в плед, закрываю глаза и вижу себя маленькой девочкой, сидящей у папы на плечах. Мы идем в зоопарк. Мы уже много раз здесь были, и встреча с обезьянами, зебрами и разными там какаду для меня как праздник. Особенно мы стали дружны с верблюдом, но мне нравятся и жирафы. Ну и шеище же у них! Вот бы забраться на голову, как на плечи к папе. Жираф - это мама, объясняет мне папа, видишь - с ней маленький жирафик, как ты. А папа - вон в том конце. Я вижу, но не могу понять, чем отличается мама от папы, и спрашиваю:
- А где наша мама?
Я впервые задаю папе этот вопрос, видимо, поэтому он останавливается, снимает меня с плеч и говорит:
- Беги, хочешь?
Разве это ответ? Но я не настаиваю на ответе и убегаю к своему верблюду.
Когда мы возвращаемся домой, папа купает меня в ванной, тщательно отмывая тельце от дневных впечатлений, затем кутает в свой махровый синий халат и сушит мне волосы феном. Они у меня роскошные, золотистые, длинные. Таких в нашем садике нет ни у кого. А Женька говорит, что я самая красивая, и он на мне женится. - Теперь будем ужинать,- говорит папа,- и бай-бай... Да?
- Ахха...
На закуску он всегда дает мне две-три маленькие, беленькие, кругленькие сладкие конфетки. И, если он забывает, я напоминаю ему. Я просто не могу уснуть без них. Одна из конфеток обязательно горькая, желтая, я ем ее первой, потом сладкие. От них просто холод во рту, как после мороженого.
- Почему она желтая?
- Это витамины,- объясняет папа.
В сентябре, как и принято, мы идем в школу и оказываемся с Женькой в разных классах, но как только выдается минутка, мы стремимся друг к другу, беремся за руки и бежим... Убегаем от всех. Женька хрустит фольгой, дает мне шоколадку.
- На...
Я откусываю, а он не смеет, смотрит на меня во все свои глаза и любуется мною.
"Жених и невеста",- кричат все. Пусть кричат. А сегодня мы поссорились с Женькой. Он ухватил меня за руки и не отпускал до тех пор, пока я не укусила его. До крови.
- Где твоя мама, где?- почему-то орет он,- ты подкидыш...
Дурак. Мне было обидно, я не могла ответить, и укусила его. До крови.
- А где наша мама?- спрашиваю я у папы, как только он появляется на пороге.
- А я тебе вот что купил,- говорит он и достает из своего поношенного портфеля огромную, блестящую, цветастую книжку.
Потом я рассказываю папе, как мы поссорились с Женькой, и, засыпая, спрашиваю:
- Пап, где же наша мама?
- Зачем же ты его укусила?..
На следующий день, придя в школу, я не вижу Женьки и весь день жду конца уроков, бегу домой, чтобы позвонить ему, швыряю ранец в угол и звоню. Он болен. Он живет в доме напротив, и я мчусь к нему, но меня не пускают - у него жар и какая-то сыпь, и еще что-то...
- Вот ему сказки...
- Спасибо, Яночка, иди домой. Завтра Женечка придет в школу.
Зачем, зачем, зачем я укусила его?!
- Не надо плакать,- говорит Женина мама,- все будет хорошо.
Но завтра Женька в школу не приходит, он умирает через три дня, и когда я говорю об этом папе, он аж подпрыгивает на стуле.
- Как умер?! Женька?..
И весь вечер ходит грустным. Мне Женьку тоже жаль.
Мой папа врач и ученый. Долгое время у него что-то не ладилось, и вот, кажется, он своего добился. Наш маленький домик давно превратился в зверинец. Здесь и пауки, и птицы... Белые мышки и крысы, кролики и петухи. А какие у нас диковинные растения! А в подвале под домом ужи и гадюки, ящерицы и лягушки. Есть черепаха. Грибов - море. Нет только крокодилов.
В седьмом классе у меня появляется ухажор - Костя из десятого.
Мне ужасно нравится быть всегда рядом с папой и думать о Косте. Я просто люблю их, и папу, и Костю.
Птицами, солнцем, буйством цветов и трав беснуется май, мы снова целуемся с Костей, проводим вместе долгие вечера, и папа обеспокоен только тем, что у меня появились редкие тройки. Он терпеть не может троечников, и мне приходится подтянуться. Однажды летом папа уезжает на какой-то симпозиум, и я приглашаю к себе Костю на чай, а он приносит вино. Мне только кажется, что я от него пьянею. На самом деле голова кружится от Костиных поцелуев, от нежности его рук, когда они настойчивыми и уверенными движениями пальцев блуждают в моих волосах, вдоль спины и талии, упорно и как бы невзначай одну за другой расстегивая пуговицы моего платьица, которое, ах ты, господи, соскальзывает вдруг с моих плеч. Теперь дело за молнией, какое-то время не поддающейся Костиным пальцам, из-за чего мне приходится помогать им, чтобы молния осталась цела. А Костя уже целует мои плечи, шею, земля уходит из-под моих ног. И вот я уже теряю опору, чувствуя, как Костины руки подхватывают меня и несут, несут, кружа по нашей маленькой комнате, несут в мою спаленку... Все это безумно ново и любопытно. Такого со мной еще не было, не было еще такого, чтобы я теряла голову, позабыв о папиных наставлениях и нравоучениях. Не было еще такого, чтобы это было так захватывающе... и бесконечно нежно. От папы у меня секретов нет и, когда он приезжает, я рассказываю ему о Косте, как мы здесь хозяйничали и даже пили вино, и едва только в его глазах вызревает немой вопрос, я тут же на него отвечаю:
-Не-а.
Я готовлю ужин, и мы болтаем, как и сто лет назад. Ничего ведь не случилось.
Осень застает нас врасплох, мы к ней совсем не готовы: не законопачены окна, не утеплены двери. Ветер отчаянно срывает листву, воет как голодный волк. Как-то вечером я сижу в темноте, озябшая и проголодавшаяся. Жуткая лень одолела меня, голос осип, и я чувствую, как пылают мои уши и щеки. Голова раскалывается, болят глаза. Такое бывало со мной и прежде - обычное дело, грипп. Папа приходит поздно, злой и уставший, у него какие-то трудности.
- И ты еще заболела...
Я чувствую себя виноватой, а папа, взяв себя в руки, возится на кухне и через каких-то полчаса несет мне ужин в постель.
- На,- говорит он,- выпей. Это горячее вино. И таблетки.
А сам пьет прямо из бутылки.
- Пей, пей,- говорит,- это лучшее средство.
И вот мы уже весело щебечем. Я глоток за глотком потягиваю из чашки горячий, черный, как смоль, кагор, а папа пьет прямо из бутылки. От вина он потихоньку приходит в себя, позабыв о своих трудностях, да и я чувствую себя лучше. Я перестаю дрожать от холода. Видимо, вино делает свое дело, и какая-то легкая, уже знакомая дрожь охватывает мое тело, когда папа, наклонившись надо мной, целует меня в ушко, желая спокойной ночи, а я, закрыв глаза, чуть приподняв голову с подушки, тяну к нему свои руки и вплетаю игривые пальчики в его шевелюру, почему-то думая о Косте, тяну свои губы навстречу его поцелуям, которыми он осыпает мой лоб, мои щеки, глаза и губы, а затем шею и плечи и, откинув пуховое одеяльце, наполняет свои большие ладони моей маленькой грудью, не робко и неуклюже тиская,
|
479.
Владимир
(22.01.2007 08:01)
Добрый день!
С НОВЫМ ГОДОМ!
Буду признателен за участие в издании романа «Ладони Бога» ( жанр – фантастическая реальность, объем – 25 авт. листов. Готова электронная версия) и других моих художественных произведений: роман «Дайте мне имя» - 18 авт. листов,2 повести – 12 авт. листов, 13 рассказов – 5 авт. листов (Готовы электронные версии).
Колотенко Владимир Павлович (псевдоним Владимир Маринин), врач, кандидат биологических наук, член Союза журналистов Украины.
Изданы мои рассказы:
- "Фора" (журнал "Молодежь и фантастика", 1994)
- "В поисках маленького рая" (еженедельник "Киевские ведомости", 1998)
- "Семя скорпиона" (еженедельник "Волшебная шкатулка", 2002г.).
Изданы книги:
- 2 повести: "Цепи совести", «Охота», 1994 г. (12 авт. листов ),
- роман "Дайте мне имя", 2000г. (18 авт. лист),
- "Экология мегаполиса", 2002г. (В соавторстве, 20 авт. листов).
Роман «Ладони Бога» ранее не публиковался.
МОЙ АДРЕС: 49041, Украина, г. Днепропетровск, Запорожское шоссе, 68 кв. 65.
КОНТАКТНЫЕ ТЕЛЕФОНЫ: 8(056)697-35-17, 8(063)494-79-41;
E-mail: vkolotenko@mail.ru
Краткое содержание романа «Ладони Бога»
В научной лаборатории провинциального городка бывшего Союза группа молодых ученых-медиков в условиях эксперимента на лабораторных животных разрабатывает способы увеличения продолжительности их жизни путем использования различных композиций биологически активных соединений, а также воздействиями на генетический аппарат клеток. И добивается определенных успехов. На научном симпозиуме в Москве руководителю группы – Оресту, предлагают перебраться в столицу, гарантируя великолепные условия для жизни и работы с тем, чтобы заниматься здоровьем членов ЦК, правительства и их окружения. В Москве Оресту и его давнишнему другу Жоре удается спасти от неминуемой смерти стареющего отпрыска царской семьи, который в знак благодарности, выдает каждому по миллиону долларов. Это позволяет тайно заниматься самым модным направлением в медицине – клонированием человека. После смерти Брежнева, отказавшегося себя клонировать, и с наступлением «катастройки», в условиях кризиса науки, друзья-коллеги, перебираются в Штаты, где продолжают заниматься своим любимым делом, продлевая жизнь миллионеров. Однажды Жоре приходит в голову мысль, что человек может жить гораздо дольше, если будет постоянно стремиться к совершенству. Современные биотехнологии при известных условиях позволяют уже сегодня клонировать человека или группу лиц (с заданными качествами), способными взять на себя труд построения Новой Атлантиды. Вызревает идея: создать совершенное общество путем клонирования великих исторических личностей. Став баснословно богатыми, Орест с Жорой для реализации своих идей привлекают выдающихся ученых мира и самые передовые современные технологии. На островах Индийского океана вырастают города нового типа, где и живут Апостолы нового мира, на которых возлагаются надежды построения Совершенного государства. Ткань романа пестрит жизнью реальных героев сегодняшнего дня (ученые, писатели, политики, военные, футурологи…) и выдающихся исторических личностей (клоны Ал-ра Македонского, Сократа, Платона, Цезаря и Клеопатры, Леонардо да Винчи и Джоконды, Наполеона, Эйнштейна, Ленина…), плетущих свои узоры и кружева в попытках самовыражения. И эта утопия по разным причинам терпит фиаско. Чудом оставшись в живых, Орест и Жора приходят к выводу: без клонирования Христа не обойтись! Требуется Второе пришествие. И Иисус, усилиями Ореста и Жоры, снова приходит на землю, чтобы строить Свое Царство Небесное. А что, если мы клонировали антихриста? Эта мысль не дает героям покоя. Красной нитью через ткань романа идет рассказ главного героя о попытках его уничтожения теми, для кого современный мир со всеми его уродствами и жестокостью является удобной средой обитания.
Фрагменты текста
Пуля прошла через мягкие ткани левой голени, поэтому он отжимает педаль сцепления пяткой. Попытка шевельнуть пальцами или согнуть ногу в голеностопе вызывает жуткую боль. Зато правой он может давить на акселератор до самого коврика.
Они стреляют по колесам, убивать его нельзя, это теперь ясно. Им нужна его голова в полном сознании, только голова, поэтому они и стреляют по колесам.
Вот и еще одна очередь. Пули, как бешенные, шипя прошивают обшивку, насвистывают, как флейта, на ветру дыры, пахнет в салоне паленым, но не бензином, не машинным маслом, значит можно еще вырваться из этого пекла.
Ему бы только пересечь черту города, а там среди узких улочек, насыпанных вдоль и поперек, он легко оставит их с носом. Он с закрытыми глазами найдет себе убежище в этом большом южном городе, где за годы отшельничества он изучил все его уголки. Он знает кажый выступ на этом асфальте, каждую выемку.
Свежая очередь оставляет косую строчку дырочек на ветровом стекле справа от него, вплетая новые звуки в мелодию флейты.
В боковом зеркале он видит черный мордастый джип с огнеными выблесками автоматных очередей. Они бьют не наугад, а тщательно прицелясь, поэтому ему нечего опасаться.
Счастье, что автобан почти пуст, он легко обходит попутные машины, а редкие встречные, зачуяв в нем опасность, тут же уходят на обочину, уступая левую полосу, словно кланяясь: вы спешите - пожалуйста.
Вот и мост. Река залита пожаром вечернего солнца. Он успевает заметить и золотистые купола церквушки, что на том берегу, и красные огоньки телевышки, а в зеркальце заднего вида - обвисшие щеки джипа. На полной скорости он крутит рулевое колесо вправо так, что зад его BMW залетает на тротуар. Теперь - побольше газу, а теперь налево и снова направо, без тормозов, конечно, сбавив, конечно, газ. Свет пока не нужен, фары можно не включать. А что сзади? Пустота. Еще два-три поворота, две-три арки и сквозь густой кустарник в чащобу сквера. Теперь только стоп. И снова боль в голени дает о себе знать. Зато тихо. Пальцами правой руки он зачем-то дотягивается до пулевых пробоин на ветровом стекле с причудливым ореолом радиальных трещинок, затем откидывает спинку сидения и несколько секунд лежит без движения с закрытыми глазами в полной уверенности, что ушел от погони. Потом тянется рукой за аптечкой, чтобы перебинтовать ногу. Врач, он за медицинской помощью не обращается, самостоятельно обрабатывает рану, бинтует ногу, не снимая брюк, не обращая внимания на часы, которые показывают уже 23:32. Это значит, что и сегодня на последний рейс он уже опоздал. Только одному Богу известно, что будет завтра...
Потом он никому об этой истории не рассказывает, лишь иногда отвечая на вопросы о шраме на левой голени, скажет:
- А, так… ерунда какая-то…
Ей же решается рассказать.
Он тогда едва не погиб.
- Это было на Мальте,- говорит он,- была ранняя осень, жара стояла адская, как обычно, я уже ехал в аэропорт из предместья Валетты…
- Слушай, что если нам попытаться создать клон нашего миллионера или, скажем, твой? Или мой?..
Он не мог не прийти к этой мысли.
- Как испытательный полигон, как модель!
Он смотрел мне в глаза, но не видел меня.
- Того же Ебржнева.
- Ленина, Сталина,- сказал я.
Жора посмотрел на меня оценивающе. Он не принимал моей иронии.
- Я серьезно,- сказал он.
- Борю Моисеева,- сказал я и тоже посмотрел ему в глаза.
- Мне нравятся хорошо пахнущие ухоженные мужчины,- ни глазом не моргнув, отпарировал он.
Мы рассмеялись.
Убеждать его в том, что я давно об этом мечтал не было никакой необходимости. Мне чудились не только отряды маленьких Цезарей, Наполеонов и тех же Ебржневых с Кобзонами и Киркоровыми, но и полчища Навуходоносоров, Рамзесов, Сенек и Спиноз... И, конечно, Толстых, Шекспиров и Моцартов, Эйнштейнов и Планков… Ух, как разгулялось по древу истории мое воображение!
- И это ведь будут не какие-то там Гомункулусы и Големы,- вторя мне, говорил теперь Жора,- не андроиды и Буратино, а настоящие, живые, Цезари и цари плоть от плоти… И нам не надо быть Иегуде-Леве Бен-Бецалеле, верно ведь?
- Верно.
- Ты победил,- сдался наконец Жора,- этот твой сокрушительный побеноносный царизм перекрыл мне дыхание.
Но и это еще было еще не все! Гетерогенный геном! – вот полет мысли, вот золотая, Ариаднина нить вечной жизни! Тем более, что у нас уже был первый опыт – наш молодеющий на глазах миллионер.
- Мне кажется, я тоже не последний гений,- произнес Жора, нахлобучивая шапку на глаза и снова проваливаясь в спячку.- В твоих Гильгамешах и Македонских что-то все-таки есть. И мне еще вот что очень нравится: какая это светлая радость – вихрем пронестись по истории!
А меня радовало и то, что постепенно мысль о клонировании, как о возможном подспорье в поисках путей увеличения продолжительности жизни, проникала в его мозг и с каждым днем все настойчивее овладевала всем его существом, становясь одной из ключевых тем наших бесед. Нам, по мнению Жоры, не нужны были ни Ленин, ни Сталин, ни Тутанхамон или какой-то Навуходоносор. Мы хотели вырастить клон и изучать его поведение в различных экспериментальных условиях. Как модель. Она, думали мы, и подсказала бы нам, как надо жить, чтобы жить долго. Я не спорил. Я и сам так думал, хотя у меня, как было сказано, были свои взгляды по поводу дальнейшей судьбы клонов. Сама идея получения копии Цезаря или Наполеона была, конечно, достойна восхищения. Но и только. Идея для какого-нибудь научно-фантастического романа или киносценария - да! Но воплотить эту идею в жизнь - нет, это было, по мнению Жоры, не реально. Собственно, мы никогда и не развивали эту идею. Как и тысячи других, она просто жила в нас и была лишь предметом нашего восхищения. Мы никому о ней не рассказывали - нас бы здесь засмеяли. Хотя слухи об успешном клонировании животных где-то за океаном уже набирали силу и долетали и до наших ушей. Вот и Симонян привез свежие новости. Мы загорелись…
Они знают друг друга так мало, что еще ни разу не праздновали дней рождения. Из отдельных фраз становится ясно, что она родилась в большом городе, у нее есть старший брат (или младший?), родители, как у всех, друзья. Он предложил ей кругосветное путешествие. Он отвозил ее домой после пресс-конференции и, тормозя у дома, неожиданно спросил: едем дальше? Куда? На край света. Нет, ее ждут дома. На краю света у него были дела и он отправился сам. Это была Иудейская пустыня, Иерусалим, via dolorosa. Потом он был рад, что она осталась.
- Мне нужен Ленин,- просто сказал я.
Эрик замолчал. Где-то звякнул, упав на кафельный пол, по всей вероятности, пинцет или скальпель, что-то металлическое, затем пробили часы на противоположной стене. Казалось и стены прислушиваются к моему голосу. Эрик молчал, я смотрел на чашечку с кофе, пальцы мои не дрожали (еще бы!), шло время. Я не смотрел на Эрика, повернул голову и смотрел в окно, затем поднес чашечку к губам и сделал глоток.
- Что? - наконец спросил Эрик.
Видимо, за Лениным сюда приходили не редко, возможно, от настоящего вождя уже ничего не осталось, его растащили по всей стране, по миру, по кусочку, по клеточке, как растаскивают Эйфелеву или Пизанскую башню, или Коллизей...
- Хоть что,- сказал я,- хоть волосок, хоть печень...
- Все гоняются за мозгом, за сердцем. Зачем?
Я стал рассказывать легенду о научной необходимости изучения тела вождя, безбожно вря и на ходу придумывая причины столь важных исследований...
- Стоп,- сказал Эрик,- всю эту галиматью рассказывай своим академикам. Я могу предложить что-нибудь из внутренних органов, скажем, пищевод, кишку...
- Хоть крайнюю плоть,- сказал я.
Эрик улыбнулся.
- Идем, выберешь,- сказал он.
- Сколько?-спросил я.
Эрик встал и, ничего не ответив, зацокал по кафельному полу своими звонкими каблуками. Мы вошли в анатомический музей, привычно воняло формалином, на полках стояли стекляные сосуды с прозрачной жидкостью, в которых, как в витрине магазина, был расфасован наш Ленин.
- Все это он?- спросил я.
Эрик ткнул указательным пальцем в одну из банок и произнес.
- Все, что осталось. Воруем потихоньку. Только для своих. Здесь кишка, толстая, пищевод и кусочек почки. Там,- Эрик кивнул на запаяный сверху мерный цилиндр,- яички и член. Никому не нужны...
- Давай,- сказал я,- всего понемногу.
Эрик легко нарушил герметичность каждой из банок, взял длинные никелированные щипчики, наоткусывал от каждого органа по крошечному кусочку и преподнес все это мне в пенициллиновом флакончике, наполненном формалином.
- Держи. Ради науки мы готовы...
Я поблагодарил кивком головы, сунул ему стодолларовую банкноту. Он взял, не смутившись, словно это и была плата за товар.
- Спасибо,- сказал я еще раз и удержал направившегося было к выходу Эрика за руку. Он удивленно уставился на меня.
- Мне бы лоскуток кожи,- сказал я.
Он не двинулся с места, затем высвободил свою руку из объятий моих пальцев и произнес, глядя мне в глаза:
- Ты тоже хочешь клонировать Ильича?
Я не был готов к такому вопросу, поэтому сделал вид, что понимаю вопрос, как шутку и, улыбнувшись, кивнул: «Ну да!».
- Все хотят клонировать Ленина. Будто бы нет ничего более интересного. С него уже содрали всю кожу и растащили по миру. И в Америке, и в Италии, и в Китае, и в Париже... Немцы трижды приезжали. Только вчера уехали индусы. Все охотятся, как за кожей крокодила. На нем уже ничего не осталось, только на лице, да и там она взялась пятнами. Если бы не я...
- Сколько?- спросил я.
Эрик молчал. Шел настоящий торг и ему, продавцу товара, было ясно, что те микрограммы вождя, которые у него остались для продажи, могли сейчас уйти почти бесплатно, за понюшку табака. Он понимал, что из меня невозможно выкачать тех денег, которые предлагают приезжающие иностранцы. Он не мог принять решение, поэтому я поспешил ему на помощь.
- Мы с Жорой решили...
Мой расчет оправдался. Услышав магическое имя Жоры, Эрик тотчас принял решение.
- Идем,- сказал он и взял меня за руку.
Когда я уходил от него, унося в пластиковом пакетике невесомую пылинку Ленина, доставшуюся мне просто в дар, он хлопнул меня по плечу и произнес:
- Только ради нашей науки. Пока никто ничем не может похвастать. Неблагодарное это дело – изучать останки вождей. Но, может быть, вам и удастся сказать о нем новое слово, разрыть в его клеточках нечто такое... Он все-таки, не в пример нынешним, вождь, а Жора – мудрец. Я знаю, он может придумать такое, что никому и в голову не взбредет. Ну, пока...
Он просто из кожи вон лезет, чтобы заполучить этот живой огонь жизни.
- И что же было дальше? - снова спрашивает она.
Он понимает, что не только этот костер он должен сегодня разжечь, ему нужно воспламенить ее интерес к его делу, к его жизни, да-да, к тому, чем он в жизни занят, разжечь ее воображение, поселить в ее сердце веру в бессмысленность другого пути.
Зачем?
Бешенный поток сознания лился из него, как вода из лейки, бурный поток слов и ничего больше.
- Почему бук или тис живут тысячу лет? Почему твоя секвойя живет до шести-семи тысяч лет? Это сотни поколений людей?! Тут все дело, я уверен, в геноме. Распознав архитектонику их генома, мы не только сможем…
- Да, пожалуй…
- Я уверен!
- Тут не может быть никаких сомнений…
Нужно было, я знал, помочь ему спуститься с неба на землю, но всякая попытка пробраться вопросами в его мозг смывалась горячими струями словесного месива. А сколько было пышной клубящейся жаркой пены!
- Позволяет, а? Как думаешь?- то и дело спрашивал он, и не расчитывая услышать ответ, щедро делился своими задумками и планами.
Я не успевал поддакивать. Спорить же – не имело смысла.
- Мир живет в полном дерьме, и теперь каждому олуху ясно, что никакая демократия, никакое народовластие не способно остановить его падение в бездну. Ни свет, ни церковь не способны остановить гибель и этого Рима. Маммона, маммона, деньги, деньги, животная страсть накопительства. Вот на нее-то и требуется накинуть узду! Да, нужна свежая мысль…
Пока Жора гневно расточал свои грозные филиппики нынешнему устройству мира и несовершенству цивилизации, я вдруг подумал о том, что и меня не все устраивало в этой жизни, в жизни этих людей, этой страны и даже этой планеты. Я поймал себя на мысли, что во многом, во всем! солидарен с Жорой. И готов за ним следовать. В рай или в ад, куда? Я не знал. Во всяком случае, наши мысли, как это часто бывает у… у братьев по разуму, сходились на одном: пора! Но как?.. Бежать!!! Но куда?.. И что же все-таки позволяет нам разгадка архитектоники генома?
- А тут еще и ты со своими клонами,- огорченно заключил он.
Когда нас попросили освободить кафе, был третий час ночи, Жора аккуратно сложил салфетку и сунул ее в задний карман джинсов, уложил в переполненную пепельницу дымящийся окурок и, заглянув мне в глаза, спросил:
- Ну что скажешь?
Он вдруг протянул свою правую руку и пальцами доверительно прикоснулся к тылу моей левой ладони.
- Ты совсем не слушаешь меня. Сидишь, молчишь…
Потом я все-таки, чисто машинально, выразил восхищение ее искусством гнать крылатое авто, кивнув головой и что-то пробормотав по этому поводу, но мысль свою не терял. Мне казалось, я избрал верную тактику убеждения. Правда, я пока не выложил свой главный козырь: я ни разу не упомянул о технологии строительства нашей пирамиды. Пирамида совершенства! – вот моя цель. А технология – это ключ, да золотой ключик от ларца жизни. Это дорога к вечности. Но не пришло еще время, думал я, применить свое главное оружие. Сделать как, know how – вот решение всех проблем. Этот ключ ее восхитит! Ей всегда нравилось все нетривиальное, неординарное, оригинальное и фантастическое… И, конечно, я ни слова не сказал ей об Иисусе Христе! Не то, чтобы всуе, вообще ни-ни. Даже мысль о Нем я гнал от себя. Хотя и молился, немо молился, взывая к Нему и призывая на помощь. Как же без Него?!.
- И, в конце-то концов,- заключил я,- надо знать, зачем ты живешь. Я – знаю. Я знаю и то, что это не только дело моей жизни - это мое предназначение, понимаешь? Это мой, но и Божий дар, и ему я буду служить страстно… Чего бы мне это не стоило. Я отказался от всего…
- Ух,- воскликнула Аня,- вот теперь я тебя узнаю!..
- Да,- сказал я и добавил,- для тебя не будет открытием тот факт, что человечество идет по пути самоуничтожения. Я хочу вывести его на путь совершенства.
- Ха,- сказала она,- ну-ну... Много у нас было таких, кто под флагами добродетелей, пытались предложить свои светлые тропы. И что?
- Но они ничего в этом не понимали. У них не было знаний. Они предлагали пути насилия, испльзуя силу дубинки, дыбы, меча, пороха, атома… Но есть другой, совершенный путь – сила гена. Это невероятно мощный фактор преобразования общества. Ген и сознание – вот выход для сохранения жизни. Это и есть моя Пирамида. Мы обязательно должны помочь…
- Я заметила, что сострадание – теперь твоя главная черта. Ты всех хочешь спасти, всем помочь. Зачем? Зачем тогда Бог? Он все решит.
Прошло еще часа полтора. Мы снова вышли из машины и теперь бродили взад-вперед от дерева к дереву, глядя под ноги и по сторонам, то рассуждая, то вдруг умолкая.
- Сейчас наука познала истину. Мы умеем считать ее кванты. Кванты жизни, сознания гена… Задача в том, чтобы уметь управлять жизнью так, чтобы залезть на ее вершину. И забрать всех с собой. Там, на этой вершине – Бог, совершенство Природы. И там счастье каждого, и счастье всех.
- Я всегда знала, что ты – неисправимый мечтатель.
Аня наклонилась и сорвала травинку. Она разглядывала ее с таким любопытством, будто это был не зеленый стебелек, а перо из хвоста фазана. Я принял ее высказывание за комплимент, и все же не удержался:
- Но разве не мечтателями были Македонский и Цезарь, Августин и Иисус? Разве не они были Колумбами своих Америк. Вся история человечества покоится на костях мечтателей. Не было бы Тутанхамона, Навуходоносера и Рамзеса, не было бы Гомера, Сократа или Сенеки, Цезаря и Клеопатры, Таис Афинской или Лауры, не было бы Рабле и Гаргантюа, Шекспира и леди Макбет, не было бы Леонардо да Винчи и его Джоконды – если бы их не было - не было бы истории. А что бы она делала без Будды, Магомета, Аллаха или Христа? Скажи что?
Аня загадочно улыбалась.
- Вот я и хочу вернуть истории своих созидателей. Творцов. Это ты понимаешь!? Спрессовать старую и воссоздать, возродить, воздвигнуть и утвердить новую историю. Но теперь уже не историю вождей и полководцев, пап и царей, не историю революций и войн, движений и партий, а историю человека, понимаешь, человека вообще.
- Не понимаю.
- Недра гена неисчерпаемы,- это был мой последний козырь,- в них суть всех наших историй…
Аня остановилась и взяла мою руку. Затем резким движением головы отбросила со лба распущенные волосы и посмотрела мне в глаза.
- Милый мой,- сказала она,- все это прекрасно! Но ты можешь мне объяснить: во что ты играешь?
- В кости. Ты меня раскусила: в кости. Как Бог. Все во что-то играют, но моя игра стоит свеч. И ты знаешь это.
- Знаю, но чего мы добьемся?
- Мы,- у меня запершило в горле, я закашлялся, как это бывает в кино и в книжках, когда героя зацепили за нерв. Мне удалось справиться с волнением и сказать то, о чем я так долго не отваживался ни слова вымолвить,- мы изменим историю.
Воцарилось молчание. Аня закрыла глаза, и снова ее губы растянулись в добродушной улыбке. Затем она встала на цыпочки, запрокинула голову, подняла обе руки к небу, словно желая улететь, и глубоко втянула в себя воздух через нос, будто наслаждалась запахом любимых фиалок.
- От тебя пахнет парным молоком и босоногим детством. И это – удивительно здорово!- произнесла она,- мне давно не было так хорошо!
Держа друг друга за руки, мы пошли по заросшей травой тропинке, и я боялся даже шепотом вспугнуть это мимолетное ощущение счастья, да-да, счастья, ибо я знал, да, я это знал наверное: это были те редкие в жизни мгновения, когда счастье переполняет тебя до краев, как вызревшее тесто посудину, где оно было замешано.
- Это правда, Рест!
Я знал, что это прадва. Я их помнил, эти мгновения. Я уверен, что каждый человек переживает в жизни подобные минуты и по пальцам может пересчитать сколько их было. И неправда, что есть люди изо дня в день купающиеся в счастье. Они только делают вид. На самом же деле путь к счастью тернист и труден, и ты понимаешь, в каком поту и какой кровью добываются его золотые крупинки.
- Милый, милый мой Рест! Все это так, просто дух захватывает. Но ты знаешь, что жизнь гораздо сложнее твоих сказочных сооружений. Знаешь, знаешь, ты же у нас ум.
Аня сжала мои пальцы и снова заглянула в глаза.
- Скажи честно: все эти твои конструкции из хрусталя и бетона, все эти стальные сваи, эти фермы и мосты, канаты и тросы, быки и леса, все эти пирамидальные, сверкающие полировкой гранитные глыбы – это же… ловушка. Утопия чистой воды! Ну, скажи! Сам-то ты веришь в реальную возможность построения своего рая?..
Наступило молчание. Мне ничего не оставалось, как только отвести взгляд в сторону и сглотнуть слюну. Но потрясение (она мне не верит!) длилось только секунду, долю мгновения. Я понял, что пришло время последней козырной карты. Мы уже сидели в машине, я взял ее руку.
- Анна! Анечка! Анюта!..
- Ты делаешь мне больно.
- Да-да, ах, прости. Слушай же, слушай!..
- Не ори ты так, я прекрасно слышу.
Я умолк, не зная с чего начать.
- Большая половина человечества,– затем произнес я,- христиане, это те, кто слепо верит в Христа.
Аня подняла брови и посмотрела на меня так, будто слышала это впервые. Но я не замечал ее удивления. Это «слепо» прозвучало фальшиво, но я часто использовал его в разговорах о вере для большей убедительности, и не стал и на сей раз отказываться от него.
- Он у каждого в сердце,- продолжал я,- но не перед глазами. К нему невозможно прикоснуться. Доктрина христианства основана на вере, и каждый день, каждую йоту времени верующие должны, это закон их существования! должны подтверждать эту веру молитвой, ритуалом, изучением священных писаний и т.д. и т.п. И вот я, мы с тобой, им, неверам, покажем живого Христа! Представляешь!? Как вот эту карту…
Я взял карту туристских маршрутов и ткнул ею Аню в предплечье.
- …вот как эту твою расческу, как пачку сигарет или вот эти твои побрякушки…
Все, что я перечислял, я брал с мест, где эти предметы лежали и поочередно вручал их Ане, а она спокойно брала их и складывала рядом с собой на сидение.
- Как Папу римского, как Алена Делона или вон того лысого типа, бегущего трусцой вдоль автобана, будто запах выхлопных газов ему приятнее аромата лесной фиалки.
Аня включила зажигание.
- Живой Христос! – прошептал я, - это второе пришествие! Разве это не стоит наших усилий и трат и разве это не перевернет нашу жизнь?
Аня, провожая взглядом марафонца, включила первую передачу.
- Постой,- потребовал я,- ответь: не перевернет?
Пальцами левой руки я взял ее за локоть. Она вернула рычаг передач в исходное положение и выключила зажигание. Мы молчали.
- Представь себе своего Наполеона,- сказала она, рассматривая теперь небо,- с мобильным телефоном в руке. Он же упадет в обморок, услышав голос своей Жозефины из какого-то серебристого пластикового коробка. И у меня есть еще множество возражений. К примеру, чем ты собираешься кормить своего нового Ленина? С его вечным запором он же заработает себе геморрой. А что это за вождь с геморроем или дизентерией? Народ засмеет. Ну да кормежка – это так, ерунда, но есть много других деталей и тонкостей.
Мы уже, набирая скорость, мчались так, что в ушах свистело.
- Ты не могла бы ехать потише!- крикнул я.
Аня сбавила газ.
- Пожалуй, ты прав,- сказала она,- я уже привыкла ехать по жизни без тормозов и не замечать этого. Ты прав и в том, что жизнь сволочная, продажная, мерзкая, что ее нужно менять, но возвращать к жизни тех, кто давно из нее ушел… Зачем? Они были и они ушли. Они сделали все, на что были способны. Их следы уже не смоют никакие дожди. Зачем же?.. Я не вижу смысла, в чем тут соль?..
- Вся соль в том,- возражал я и снова седлал своего коня.
Чтобы нас лишний раз не беспокоили, Аня отключила телефон, но иногда, вдруг что-то вспомнив, сама куда-то звонила, то быстро и озабочено говоря по-французски, то вдруг просто хохоча в трубку, на ходу решая какие-то неотложные вопросы. И я думал, как нелегко мне с нею придется в дальнейшем. Даже смех ее был французским.
- Твоя Пирамида блистательна! Но у каждого власть имущего она своя. Никто тебя и слушать не станет. Ты же знаешь наших вождей, их убогость и серость, ты послушай их речи… Их ты не переубедишь никогда, а без них не построишь.
- Но я знаю истину.
- «Что есть истина?». Помнишь Пилата? Истина – это Бог! Ты готов стать Богом? Вспомни историю Иисуса. Не было и нет пророка в своем отечестве. Ты будешь изувечен, оплеван, растоптан, распят. Ты готов к этому? Но сперва надо стать ну хотя б президентом. Я не верю, что тебе это удастся. Ты станешь только фараоном своей пирамиды и будешь заживо в ней погребен. И ты это знаешь. Зачем это тебе? Ты же не станешь, надеюсь, революционером?
- Разве что революционером сознания…
- Тебе, я знаю, плевать на истину, и за это я тебя люблю. Мне кажется я уже готова идти за тобой. Даже если мы не изменим историю.
- Прекрасно! Идем!..
- Но ты же ни во что не веришь?
- Неправда, - в тебя.
- Ах, какая прелестная музыка! Рест, нельзя доверять человеку, которого ты любишь. Как думаешь?
- Я как раз так не думаю.
Так, то журя друг дружку, то потакая и льстя, мы с невероятным наслаждением, я бы сказал с упоением, проводили эти вдруг свалившиеся с Неба на нас и стремительно теперь летящие, счастливые дни. Часы и минуты. Да, эти неповторимые мгновения…
Когда стоишь у Эйфелевой башни, чуть сбоку и, вжав голову в плечи, взираешь на нее исподлобья и не предпринимаешь никаких попыток к спасению (вдруг шагнет своей пустой слоновьей лапой!), она кажется жутких размеров паучихой, нависшей над тобой выпуклым кверху подбрюшьем, как-то по матерински осторожничающим, чтобы не раздавить тебя своей гигантской громадой. Чуствуешь себя, конечно, раздавленным.
А вечером с самой верхотуры Эйфелевой башни, ослепительно белым мечом, кромсая на куски ночной купол неба, шастает луч мощного прожектора, словно в попытке разорвать эту черную попону и приблизить людей к Небу.
- Эта страна была добра ко мне,- говорила Аня,- и я благодарна ей…
Мы как раз шли по самому старому в Париже Новому мосту. А на самом донышке моей души уже теплилась надежда, что мне все-таки удастся уговорить Аню вместе строить нашу Пирамиду.
- Значит, я могу рассчитывать?..
-Ты слишком спешишь потерять меня.
-Ты все еще не понимаешь, чего лишаешь себя.
Мы брели рука в руке.
- Решиться на безумие,- неожиданно произнесла Аня,- меня призывает блеск твоих глаз. Как они светятся!
- У нас просто нет времени на ожидание славы.
- Ты мне нравишься, и это путает все мои карты. Но я не уверена, что…
- Ты должна мне верить. Пирамида - это, пожалуй, единственное мое успешное предприятие.
- Это только помпа, прожект и шум, докучающий шум. Терпеть не могу дилетантов и невежд.
- Ты не поняла. Пирамида – это целое мировоззрение, если хочешь – это новая религия. И еще это моя манера думать.
- Я все еще не могу взять в толк, кто же ты на самом деле?
- Никто.
- Это правда?
- Правда в том, что у нас с тобой нет другого пути.
- Ты уже такой знаменитый…
- Ты и представить себе не можешь, сколько в мире людей даже не подозревают о моем существовании.
Изгиб пляжа, коса гальки от камней до камней длиной в две-три сотни метров, кругом ни души, порывистый ветер, белые буруны на иссиня-фиолетовой равнине, шум прибоя... Когда большая волна бьется о камень, холодные брызги долетают и до них. Он заботливо прикрывает ее плечи своей курткой, которая помнит и другие плечи, знает и другие камни.
Это были сумасшедшие дни, наполненные любовью и духом французского, так сказать, менталитета, от восторга перехватывало дыхание и судорога сводила горло. Глаза разбегались и от усталости подкашивались ноги, мы просто валились с ног, как измученные и истощенные длинной дорогой кони. Мы были счастливы, я - во всяком случае. Во всяком случае, я не чувствовал под ногами земли! Анне тоже досталось. Она едва переводила дыхание, а я гнал ее и гнал, погонял свирепым кнутом любопытства и, пожалуй, жизненной необходимости. Ведь нельзя было допустить, чтобы зря пропала даже минута. И мы наполняли мгновение за мгновением, каждую нашу минуту новым и новым, и новым узнаванием друг друга. До изнеможения. А потом, напоенные теплым светом и радостью, засыпали. Доходило до того, что Аня спала у меня на плече, а я дважды спал даже стоя…
Это были сумасшедшие и счастливые наши дни. И, конечно, ночи. Я еще ни разу не был так счастлив. Сначала я надеялся выполнить свою миссию в течение двух-трх дней, но прошла неделя, и мне не хотелось уезжать. Это были незабываемые семь дней, которые заставили меня по-новому взглянуть на жизнь. Правда! Аня разбудила во мне интерес к другой жизни, и я по новому взглянул на свое будущее. Мне казалось, что до этой встречи я и не жил, что лучшие мои годы были каким-то кошмаром, умопомешательством, бредом. Я просто зря терял время, тратил себя на кошмарную выдумку, на идею, не стоящую ломанного гроша. Э-ка невидаль – Пирамида! Совершенное умопомрачение! Утопия же, утопия чистой воды! А теперь! Я обрел целый мир, Вселенную! И какую Вселенную - Аню! Никакие гены, никакие клоны и Пирамиды не сравнимы с тем, что я вдруг обрел! Всеобщее счастье мира, погоня за совершенством… Какая собачья чушь, какая-то интеллектуальная блажь! Увидеть Париж и умереть! – не об этом ли мечтают миллионы, миллиарды людей во всем мире? А я могу жить, просто жить здесь, в Париже, с удивительной женщиной… Припеваючи! Мы построим свою Пирамиду, свой маленький тихий рай на белом берегу у самого синего в мире моря!.. Я вдруг осознал, по крайней мере, мне захотелось… Мне пригрезилось и почудилось, что… Я летал! И мне уже не казалось, что я здесь теряю время. Я расставался с Парижем с чувством до краев наполнененного сосуда. Да, я был через край переполнен Аней. Оказалось, что теряя, ты всегда что-нибудь обретаешь.
Вот в какие искушения иногда нас бросает жизнь, вот как испытывает нас судьба. Значит, жив еще злой Люцифер!
Потом, оторвавшись уже от земли, в самолете, набирающем высоту, протрезвев и придя в себя, я, конечно же, взял себя в руки.
Оказывается, ни один ее жест, ни одно ее слово его не раздражает, даже ее привычка отвечать вопросом на вопрос: «А ты?». А ее неумение справиться с обычным пистолетом, когда ему приходится рисковать и ее жизнью, его восхищает.
- Рука,- говорит он, делая резкий поворот вправо,- рука…
И когда машину выравнивает, снова бросает:
- Прямая рука…
- Я помню,- говорит она и, не целясь, разряжает всю обойму в преследующего их мотоциклиста.
- Сколько было ошибок и какие потери пришлось пережить! Ну ты помнишь эту нашумевшую историю с…
- Почему ты до сих пор не женился?
- Ты, конечно, не можешь не знать, как непросто открываются тайны гена.
- Да уж, мы с Жорой до сих пор ищем пути…
- Нам удалось расшифровать геном человека. Теперь я могу проследить…
- Расшифровать геном человека?!.
Я не мог поверить в то, что он сказал.
- Значит ты один из тех, кто?!.
- Что тебя так удивляет?
- Но я знаю всех, кто этим занимается. Я ни разу не слышал, чтобы кто-то из них назвал твое имя.
- И никогда не услышишь.
Всем своим видом я превратился в огромный вопрос. Юра сделал вид, что этого не заметил.
- Я много слышал о том, что...
- Большая половина из того, что ты слышал – неправда.
Я и не думал ему возражать.
- Скажу больше: я могу проследить теперь траекторию мысли генома и предсказать…
- Траекторию мысли генома?! Сильно сказано! Ты только вдумайся в то, что говоришь!
Юра пропустил мои слова мимо ушей.
- Я могу предсказать будущее генофонда, феноменологию поведения любого человека, любой жабы или бледной спирохеты…
Давно я не был так потрясен. Мы столько лет выбросили козе под хвост в поисках способов управления этой самой феноменологией генов, и вот передо мной сидел человек, который говорил об этом, как о маринованых лисичках. Значит мы давно с ним шли по одной дороге.
- Ты Нострадамус?- это все, о чем я мог его спросить.
Юра не ответил, а только поудобнее устроился в кресле, втиснулся, как бы вполз в него всем своим сбитым телом, как в нору, при этом ему пришлось выпростать ноги и, скрестив их, уложить на стол.
- Феномен Нострадамуса,- сказал он все тем же поучительным тоном,- теперь ясен каждому школьнику. Нострадамус - как биотестер. Так сложилась его жизнь и судьба, он был так воспитан и обучен, что его геном стал диктовать его мозгу картины будущего планеты. В этом нет ничего необычного. Мы придумали технологию предвидения будущего, основанную на изучении памяти ДНК. Это так же просто, как почесать задницу. Только гораздо убедительнее, чем это делают всякие там Нострадамусы и Мессинги, Грейси и Глобы, с указанием конкретных мест, дат и четкой формулировкой событий. Все изменения, любые потрясения носятся в воздухе и детерминируют поведение всего живого в том числе и функции ДНК. Этим объясняется феномен пророчества. За те деньги, которые платят ученым, гены должны разговаривать, и мы должны слышать не тлько их шепот, но и крик. Пусть это будет даже азбука Морзе или язык эсперанто, ты согласен?
У меня не было причин недоверять ему.
- Мне кажется, что теперь я все знаю о смерти.
Господи, Боже мой! Юра так просто это сказал, что у меня перехватило дыхание. Это было новое потрясение.
- Грань между жизнью и смертью невидима и неуловима, ты это знаешь лучше меня.
- Знаю, знаю…
- Я могу словом воздействовать на ДНК…
Мне стало жутко от этих слов. Я тотчас вспомнил о Жоре, и не мог не спросить:
- Скажи, и этническое оружие?..
- Ты, я вижу, в курсе событий?
Я ждал ответа на свой вопрос.
- Да,- сказал он,- тут мы преуспели, и сегодня в мире нет…
- И ты в состоянии?..
- А то!!!
Он произнес это «А то!!!», как мальчишка, сбивший самолет рогаткой. Иногда мы с восторгом обсуждали какое-либо
научное достижение:
- Из того углерода, что находится в твоем организме, можно сделать алмаз весом в несколько граммов.
- А из того, что в твоем?
Юра улыбнулся и сказал:
- А из моего – бриллиант, стоимостью в сотни карат.
Да, это было похоже на правду: цена его углерода заметно подскочила прямо на моих глазах. И я не переставал удивляться с каким непреклонным старанием он лепил себе памятник из глины воспоминаний, на мой взгляд, с одной только целью: уцелеть в будущем.
- А правда, что все газеты пестрят о конце света?
К
|
478.
Татьяна Ветрова
(31.12.2006 07:45)
всех с Новым годом!
|
477.
Ирина
(21.12.2006 14:24)
Второй открытый творческий конкурс молодых поэтов , писателей и журналистов (возраст 14-30 лет). Приглашаем принять участие
Положение о конкурсе и номинации здесь http://prorvis-hn.narod.ru/pologenie2006-2007.html
|
476.
Ирина
(09.07.2006 23:22)
Люба, поздравляю с хорошим врачом;) Наше здоровье в их руках, так что выбирать надо тщательно. Особенно когда касается ребенка.
Альбина, я добавила! Еще "намылила" тебе письмо.
|
475.
Альбина.
(05.07.2006 09:57)
Приветик! Всё тихо, как видно...
А я у меня новые стихи... Наверное, еще будут. :)
Вот страничка, где можно меня посмотреть.
http://www.eva.ru/passport/malyutka
|
474.
Люба.
(28.06.2006 14:27)
Сводила сегодня сынулю к гастроэнтерологу. Врач очень понравилась и назначила грамотное лечение в отличии от гады в поликлинеке. Будем теперь лечиться.
|
473.
Люба.
(25.06.2006 21:25)
Это была я :)
|
|
Я не исчез. Я просто замоталась. Жара.
Старший болел скарлатиной, у младшего опять сопли и из-за них отменили вторую прививку.
Моя лечащая врач ушла в отпуск, поэтому в назначенный день я явилась к её замене. Эта мадам отказалась делать ребёнку прививку ссылаясь на жару. Велела ждать окончания жары. А время поджимает мы должны были успеть до 25 числа, а с понедельника мы делаем масаж, значит прививка отложенаа до пятницы. Тольку скорее всего от неё будет уже ноль, поэтому я ещё не опредилилась делать её или нет.
Это мелочь, а вот далее будет проблема посерьёзней:
Перед уходом в отпуск моя любимая педиатр направила моего старшего на обследование в НИИ Паразитологии. Состояние ребёнка описывать не хочу, скажу лишь что вид у него явно не здоровый. Как всегда Тамара Григорьевна не ошиблась и сумела правильно угадать диагноз. У ребёнка обнаружился лямблиоз.
Проблема в том, что Тамара Григорьевна ушла в отпуск и лечить Игоряшу я повела к её замене. А эта умная женщина прописала моему сыну Бисептол и Хафитал. Что такое Бисептол и с чем его едят я прекрасно знаю, я очень удивилась, но та мне с умным видом потвердила , что надо именно его так как Левомицетин она прописывать не хочет он очень горький :((
Что-такое Хафитол я не знала и решила что наверно это и есть тот самый крутой препарат которым изгоняются гады лямблии. Когда я пришла в аптеку то выяснила, что это всего лишь желчегонное и что выгнать паразитов из моего ребёнка должен именно Бисептол. В анотации же этого препарата нигде не сказанно, что он может быть активным против лямблий.
Я пришла домой из аптеки в рыдающем состоянии. Тогда моя мама взяла всё в свои руки и начала звонить в поликлинику добиваясь разговора с заведующей педиатрический отделением. Прозвонились. В результате на меня на орали, что я не медик а значит не должна сувать нос не всвоё дело!!!
Это мой-то ребёнок и не моё дело!!!!
В результате мне всё-таки велели давать ребёнку препарат Макмирор. Но только указали дозировку в два раза меньше требующейся!!! Да ещё контрольный анализ на лямблии велели сдать через два дня после лечения. Хотя он даст верный результат только через два-три недели после лечения.
Я от всего этого просто в шоке, так как изучив и пролапатив кучу медицинских сайтов у меня образовалось стойкое ощущение, что все рекомендации полученные мною от врачей привели бы только к необоснованной лишней травиловке моего Игоряши.
Лямблиоз страшная болезнь и лечится очень долго и тяжело. Зачем давать рекомендации которые вместо того чтобы помочь сделают только хуже???
В понедельник я пойду ругаться и требовать направление в гастроэнтрологический центр. Этим козлам я больше не доверяю.
|
Оставлять сообщения могут только зарегистрированные пользователи
[Регистрация · Вход] |
|
|